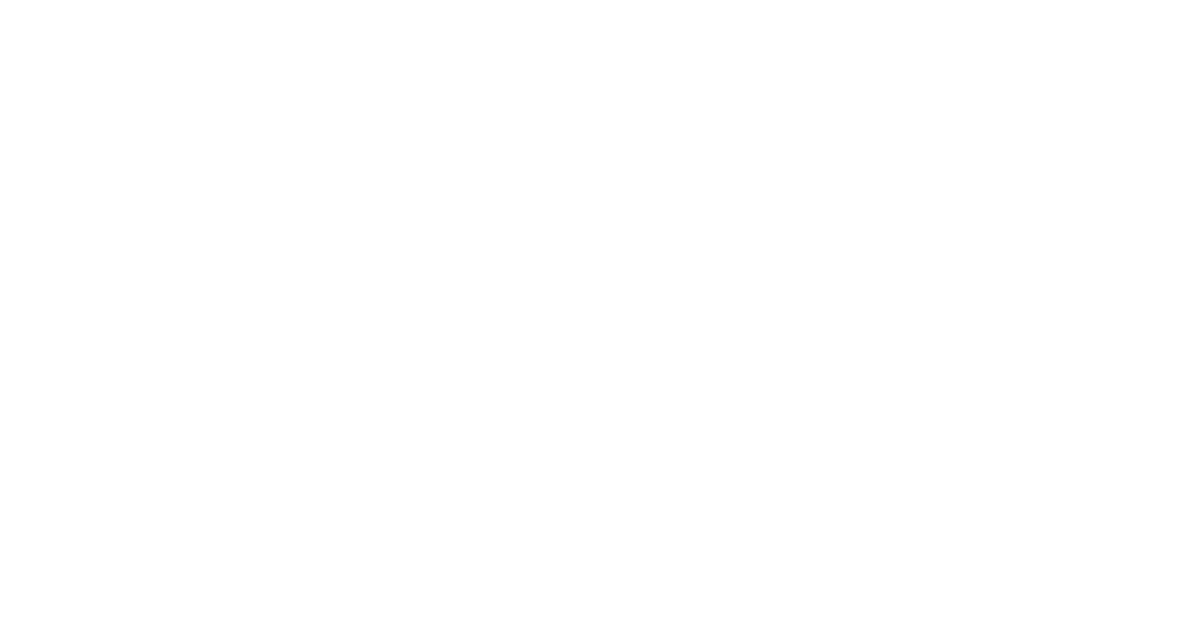24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Я молился о том, чтобы, если бы меня убили, оставили моё тело на виду… Таким образом, я не стал бы «десапаресидо» («пропавшим без вести»)».”][vc_single_image image=”97724″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Эта статья входит в серию «Проект изгнания», разрабатываемого партнёром «Индекса цензуры» (Index on Censorship) «Глоубэл джонэлист» (Global Journalist), в которой опубликованы интервью с живущими в изгнании журналистами со всего мира.
Чарльз Атангана знает как никто другой, о вызовах, с которыми сталкиваются журналисты в Камеруне.
В 1990-х и начале 2000-х годов Атангана работал журналистом-расследователем, занимался репортажами с экономических вопросов для ныне несуществующей «Ла Сентинель» (La Sentinelle), а также «Ле Мессаджер» (Le Messager), первой независимой газеты Камеруна, и часто публиковал статьи о злоупотреблениях и коррупции властей в этой центральноафриканской стране.
В Камеруне многое могло стать предметом расследования журналистов, ведь эта страна занимает 145-е место из 176 стран в последнем «Индексе восприятия коррупции» организации «Трансперенси Интернэшнл» (Transparency International). Репортаж Атангана о недостаточной информационной открытости в отчётности о государственных доходах от продажи нефти публиковали на первой полосе в течение трех дней подряд, а в его статье о взяточничестве при приемах в школу говорилось о причастности к этому тогдашнего министра образования Камеруна.
Статьи Атангана не приветствовались правительством президента Поля Бийи, который руководит страной с 1982 года. За критику своего правительства он часто подвергал журналистов тюремному заключению. В 2004 году Атангана помог организовать пресс-конференцию для Национального совета Южного Камеруна – организации, поддерживающей независимость англоязычного меньшинства Камеруна на юго-западе страны. Во время этого мероприятия Атангана был похищен и доставлен в армейский центр содержания под стражей Дуалы, крупнейшего города Камеруна. Там похитители его избивали и пытали, требуя сознаться, кто его источники в правительстве.
Атангана утверждает: из того, каким образом его допрашивали, можно сделать вывод, что задержание было заказано министром образования Джозефом Овона, давним сторонником Бийи, который также стал главой Федерации футбола Камеруна. Овона не ответил на наши письма, требующие комментариев. Разысканный на «Фейсбуке» его сын, Матиас Эрик Овона Нгуни, отверг факт причастности своего отца к аресту Атангана, написав, что некоторые журналисты «хотят оправдать свою эмиграцию, пытаясь получить политическое убежище даже на основе ложных данных».
Атангана удалось сбежать из тюрьмы с помощью родственников. Он также узнал, что больше не может оставаться в безопасности в Камеруне. В конце концов, Атангана уехал в Великобританию, где после продолжительных усилий ему было предоставлено убежище.
Сегодня Атангана живет в Глазго (Шотландия), работает журналистом-фрилансером. Он побеседовал с репортёром «Глоубэл джонэлист» Эйлином Битоном о том, как его пытали, тайном бегстве из Камеруна и трудностях в получении убежища в Великобритании. Ниже приведена отредактированная версия их интервью:
«Глоубэл джонэлист»: Что изначально Вас потянуло к занятию журналистикой?
Атангана: С шестилетнего возраста я принимал участие в поощрительном занятии в классе для тех, кто мог читать газеты. На выходных надо было вырезать газетную статью, которая вас заинтересовала, а затем приклеить ее на стену. Наш учитель называл это «обойным журналом».
[В колледже] я присоединился к пресс-клубу. Мы иногда встречались с радиожурналистами, которые приходили, чтобы поговорить с нами и попытаться преподать нам основы журналистики.
В то время меня не очень интересовала эта работа, потому что эти ребята, которые приходили в наш колледж и объясняли, что такое журналистика, … не были богатыми парнями. То, как они одевались меня не впечатляло. Но с возрастом я изменил свое мнение. Иногда я видел, как журналисты ходили с камерой. Неожиданно это показалось мне захватывающим.
«Гдж»: Как Вы в итоге сосредоточились на экономических расследованиях?
Атангана: Когда я начал свою карьеру в журналистике, никто не интересовался экономическими проблемами. Всякий раз, когда вы читали похожие статьи, то обычно это были только официальные пресс-релизы о финансировании МВФ … Никто не фокусировался на расследовании как таковом – пытаясь выяснить, что стоит за цифрами.
Во время роботы во Всемирном банке я прошел корпоративное обучение. Впоследствии я и некоторые мои коллеги из государственных СМИ решили создать команду журналистов, занимающихся экономической тематикой.
Нам надоело видеть объявления о правительственных проектах, которые звучали так: «Мы собираемся построить 600 учебных помещений в провинциях по всему Камеруну».
И как только деньги были выделены, и работа выполнена, некому было путешествовать по стране, чтобы все проверить, потому что, если бы вы это сделали, то обнаружили бы, что только пять или десять школ были построены, а все деньги потрачены.
«Гдж»: Как бы Вы описали давление, с которым сталкиваются журналисты в Камеруне?
Атангана: Если журналист критикует правительственных чиновников, к нему могут подойти, когда он выпивает в баре и предложить взятку.
Вас могут попросить смягчить ваши статьи и, возможно, поместить там немного лести о министре или ком-то еще. Журналисты в Камеруне не зарабатывают очень много, и поэтому это может быть эффективным способом [заставить их замолчать]. Но в других случаях вам угрожают или избивают.
«Гдж»: Над чем Вы работали, что это привлекло внимание правительства?
Атангана: Однажды моя статья шла на передовице в течение трех дней. Это был репортаж, касающийся информационной открытости правительства, в связи с его доходами от продажи нефти, и того, как Всемирный банк взял с них обещание быть честными в отчётах, как эти деньги расходуются в обмен на крупный кредит.
Репортаж заключался в том, что впервые в истории правительство было поставлено на колени. Всемирный банк сказал: «Мы дадим вам деньги, но только в том случае, если правительство опубликует свои данные, касающиеся экспорта нефти».
Я также работал над материалом, обличающим некоторых директоров колледжей, которые брали взятки у родителей, чтобы принять на обучение их детей. Некоторые из этих людей были очень близки к министру образования.
«Гдж»: Что Вы делали в тот день, когда Вас задержали?
Атангана: Я только что представил докладчиков на конференции, и меня вызвали на улицу. Я столкнулся с тремя мужчинами, которые были одеты как журналисты, хотя, как оказалось, ними не были. Один из них сказал мне: «Чарльз, мы следили за твоими репортажами, видели твои выступления по телевизору».
И они начали бить меня; сначала ударили по левой щеке, а затем по правой, потом повалили меня на землю.
Меня отвезли в камеру военной полиции в Дуале – место, где обычно содержали особо опасных преступников, поэтому я полагаю, что меня считали одним из них. Я пробыл там пару недель, и никто не знал, где я.
Из их вопросов я понял, что задержание было заказано министром образования.
«Гдж»: Что они от Вас хотели?
Атангана: Меня спрашивали о моих источниках. Это было главное, что они хотели знать: кто в правительстве сливал мне информацию. У меня были очень хорошие контакты в армии и правительственных комитетах – образования, здравоохранения, финансов, поэтому им было понятно с репортажей, что кто-то давал мне личную информацию.
Вторая ночь была мучительной, потому что меня сильно избили. Помню, в первую ночь я спал на полу в нижнем белье, но на вторую ночь они заставили меня спать без него. Через провода, обмотанные вокруг моих гениталий, они пропускали ток, чтобы заставить меня раскрыть свои источники информации.
Меня учили всегда защищать мои источники. Когда я был студентом, поговорить с нами приехала журналистка из Вашингтона. Она рассказала, что мы должны защищать наши источники любой ценой.
Выбор был таков: раскрыть мои источники информации и уничтожить свою репутацию или умереть, защищая их.
«ГДж»: Так как Вы убежали?
Атангана: После двух недель я осознал, что пришел мой конец. Им было легко убить меня – никто не знал, где я. Тюремщики так плохо кормили меня, что у меня началась диарея, поэтому я попросил их отвезти меня в больницу. Там я встретил парня, которого вскоре должны были освободить, и у него был телефон. Мне удалось попросить его, чтобы он сообщил обо мне отцу.
В больнице меня охранял кто-то из военной полиции, но он не знал, кто я, и почему я там. Я пообещал ему деньги, и он позволил мне пойти на автостоянку [где меня ожидал отец].
У моей сестры есть друг, который ездит во Францию по делам, и мне удалось выехать вместе с ним.
«ГД»: Насколько сложно было получить убежище в Великобритании?
Атангана: Первые несколько лет были очень сложными. Мне потребовалось пару месяцев, чтобы оправиться от тяжелого испытания, и начать возвращаться к жизни.
Я считаю, что в системе предоставления убежища в Великобритании присутствует сильная дискриминация. Вы всё время проводите в организациях, разговариваете о стране, где никто из сотрудников никогда не был. Было очень трудно.
Я был арестован в 2008 году [в Великобритании]. Оказалось, что мое ходатайство о предоставлении убежища было отклонено. Они не верили, что я настоящий журналист или что моя жизнь в опасности.
Я поговорил со старым коллегой из Всемирного банка, и он направил заявление. То же самое сделал коллега из «Ле Мессаджер». Национальный союз журналистов Шотландии очень мне помог, и Комитет по защите журналистов США также написал обо мне и направил заявление с описанием ситуации со свободой прессы в Камеруне.
Была общественная кампания и петиция с более чем 7 000 подписей, которые мы отправили в Министерство внутренних дел. Все это позволило мне получить свободу, и мне было предоставлено [убежище] в 2011 году после семи лет в подвешенном состоянии… семи лет борьбы.
Партнёр «Индекса цензуры» «Глоубэл джонэлист» – веб-сайт, который представляет свободу прессы в мировом масштабе и публикует международные новости. Он также готовит еженедельную радиопрограмму, которая выходит в эфир на радиостанции КБИЯ (КВIА), – партнёр НГР (NPR) в центральной части штата Миссури – и на партнёрских радиостанциях в шести других штатах. Веб-сайт и радиошоу готовятся совместно профессиональными сотрудниками и студентами Школы журналистики Миссурийского университета, самой древней школы журналистики в США.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Я молился о том, чтобы, если бы меня убили, оставили моё тело на виду… Таким образом, я не стал бы «десапаресидо» («пропавшим без вести»)».”][vc_single_image image=”99099″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Хамид Исмаилов заслуживает извинений. Или, по крайней мере, объяснений.
Прошло 26 лет со времени событий, заставивших узбекского журналиста Хамида Исмаилова покинуть родную страну Узбекистан и бежать в Великобританию. В 1990-х годах Исмаилов работал с телевизионной командой «Би-би-си» над фильмом об Узбекистане. Репрессивный правящий режим Ислама Каримова возбудил уголовное дело против Исмаилова. Власти заявили, что Исмаилов пытался свергнуть правительство.
Друзья посоветовали Исмаилову бежать из Узбекистана после угроз в адрес его семьи и нападений на его дом. Так он и сделал. Двадцать четыре года спустя он все ещё не вернулся в родную страну.
Он не возвратился не из-за отсутствия попыток. Исмаилов попытался вернуться ещё в прошлом году после смерти Каримова в 2016 году. Ему было отказано во въезде.
Книги Исмаилова – одного из наиболее широко печатанных узбекских писателей в мире – запрещены в его родной стране. Упоминания имени Исмаилова не допускаются. Сам факт его существования практически стёрт из повседневной культурной жизни его родины. Однако в эпоху интернета Исмаилов нашёл способы связаться с узбекской аудиторией через сайты социальных сетей. Он публикует свои романы в «Фейсбуке», где узбеки могут их прочесть.
Согласно Индексу свободы прессы «Репортёров без границ», Узбекистан занимает 169-е место из 180 стран. В условиях жёсткого контроля традиционных СМИ правительство в последнее время начало активнее вести борьбу с независимыми новостными веб-сайтами и приложениями для обмена мгновенными сообщениями.
После смерти Каримова в 2016 году к власти пришёл премьер-министр Шавкат Мирзиёев. 2 марта 2018 года Узбекистан выпустил Юсуфа Рузимурадова, который отбывал строк в тюрьме более 19 лет – самое длительное заключение для журналиста в мире. Исмаилов обрадовался известию об освобождении Рузимурадова, но выразил сомнение: «Насколько я полон надежд, настолько я также скептически настроен».
В иммиграции в Великобритании Исмаилов работает в Всемирной службе «Би-би-си». В мае 2010 года он был назначен на должность писателя-резидента «Би-би-си» и занимал её до конца 2014 года. Исмаилов в настоящее время является редактором новостной службы Центральной Азии на «Би-би-си».
Хамид Исмаилов обговорил с журналистом Сиднеем Каличем с «Индекса цензуры» (Index on Censorship) состояние прав человека в Узбекистане, пребывание в иммиграции и свою недавно переведённую книгу «Танец дьявола» («The Devil’s Dance»). Ниже представлена отредактированная версия их интервью:
«Индекс»: Какова была ситуация с правами человека в Узбекистане до Вашего отъезда и как она изменилась за последние 23 года?
Исмаилов: К сожалению, на протяжении многих лет ситуация ухудшалась из-за автократического режима президента Каримова, который был у власти в ту пору и умер в 2016 году. Так что все это время ситуация с правами человека в Узбекистане была довольно ужасной. Узбекистан всегда находился в нижней, самой нижней части списка по состоянию прав человека в мире. Сегодня действия нового президента Шавката Мирзиёева вселяют надежду, что ситуация с правами человека улучшается, поскольку несколько политических заключённых были освобождены из тюрьмы. Некоторые действия прессы стали более активными и более открытыми. Есть проблеск надежды на то, что всё будет улучшаться. Но в то же время – оглядываясь на другие страны с новыми лидерами, которые сначала делали вид, что являются реформаторами, но затем возвращаются к политике предыдущих правителей – я также немного скептически настроен. Насколько я полон надежд, настолько я также скептически настроен.
«Индекс»: Вы пытались вернуться в Узбекистан в прошлом году, но Вам было отказано. Как думаете, Вы увидите свою страну снова?
Исмаилов: Да, это было довольно досадно, потому что даже при прежних властях я дважды пытался попасть в Узбекистан после событий в Андижане в 2005 году, но новая администрация не разрешила мне въезжать в страну. Это был настоящий шок. Я думаю, что они должны передо мной извиниться за то, что не впустили меня на родину. Я являюсь одним из хорошо известных на Западе и во всем мире писателей, который пропагандирует узбекскую литературу, – может быть, больше всех. Так почему же меня не пустили в мою страну? Мне нужны объяснения и, по крайней мере, извинения, прежде чем я решу, что делать дальше.
«Индекс»: Вы чувствовали то же каждый раз, когда Вам отказывали, –простую потребность в извинениях?
Исмаилов: Я так считаю. Я не совершал никаких преступлений против Узбекистана. Я ничего не сделал плохого и не нанёс вреда Узбекистану. Все, что я делаю, это продвижение литературы и культуры Узбекистана во всем мире. Поэтому я немного шокирован и недоумеваю, почему мне не был разрешён въезд в Узбекистан. Здесь живут все мои родственники, я собирался отправиться на могилу матери, чтобы почтить её память. Но когда я все спланировал, меня внезапно выдворили из аэропорта.
«Индекс»: Вы не живете в родной стране с 1992 года, но Вы все ещё публикуетесь на узбекском языке. Означает ли это, что Вы все ещё пишете, памятуя об узбекской аудитории, а не западной?
Исмаилов: Я пишу на разных языках. Пишу на узбекском языке. Пишу по-русски. Я также пишу по-английски. Так что использую разные языки для разных аудиторий. Если я пишу на узбекском, это, потенциально, для узбеков, ведь мало кто из англичан или русских читает на узбекском. Переводы служат мне хорошую службу из-за запрета моих книг в Узбекистане. Но в эпоху интернета запреты не имеют большого значения, потому что я все ещё могу опубликовать мои произведения в сети. Другое дело, что люди боятся упоминать или обсуждать меня, потому что они знают о последствиях. Тем не менее, интернет делает мою жизнь намного проще.
«Индекс»: Ваша новая книга «Танец дьявола» на английском языке скоро появится на британском книжном рынке. О чем она?
Исмаилов: На самом деле «Танец дьявола» – не новая книга. Я завершил работу над ней в 2012 году, а затем опубликовал на узбекском языке в «Фейсбуке». В то время она было довольно «вирусной» книгой. Она кажется новой, потому что переведена на английский. На самом деле, я написал три романа после неё, и только что закончил писать роман на английском. «Танец дьявола» рассказывает о знаменитом писателе Абдулле Кадыри, самом почитаемом узбекском писателе ХХ-го века, который хотел написать роман, превосходивший все, что он написал раньше. Нам известно, о чем должен был быть этот роман, но в то время, как Кадыри начал составлять план произведения, его арестовали. Десять месяцев спустя, в 1938 году, он был застрелен в сталинских застенках. Моё произведение рассказывает о пребывании Кадыри в тюрьме, его размышлениях о своём знаменитом неписаном романе. Это два романа в одном. Я осмелился написать роман за Кадыри. Процесс написания происходит у него в голове, поэтому произведение написано не на 100 процентов, но есть черновики, есть сюжетные линии, есть намерения и идеи. Это написанный, но, в то же время, неписаный роман.
«Индекс»: Как время, проведённое на должности писателя-резидента «Би-би-си», повлияло на Вас как на журналиста?
Исмаилов: Это было здорово, но в то же время я чувствовал большую ответственность, потому что представлял великую когорту писателей, таких как Джордж Оруэлл, В. С. Найпол и других. Я чувствовал себя воплощением этих людей. Я пытался показать, что именно писательство значит для «Би-би-си», чем творчество является для этой организации.
«Индекс»: Как Вы считаете, что самое сложное в статусе журналиста-иммигранта?
Исмаилов: Самый сложный аспект – это не видится ежедневно с соотечественниками. Хотя вы виртуально с ними постоянно работаете, но вы не видите их, глядя в глаза, – это очень важно. Однако есть и плюсы в иммиграции. Когда вы начинаете смотреть на свою часть мира или страну с высоты птичьего полёта, вы можете видеть перспективу своей страны в пределах всего мира. Вы можете сравнить накопленный опыт родины с другими регионами мира, и привнести в свой мир аналогичный или похожий опыт с других стран. Таким образом, есть свои плюсы и минусы.
«Индекс»: Как, на Ваш взгляд, Ваши репортажи изменились с тех пор, как Вы иммигрировали?
Исмаилов: Я считаю, что журналистика в бывшем Советском Союзе была очень концептуальной. Речь шла о теориях и больших схемах, но не о людях. Журналистику на «Би-би-си» больше интересуют истории людей, вы постигаете реальность сквозь их призму и опыт. Так что это было самое поразительное различие и ошеломляющий опыт для меня. Как писатель, я всегда отношусь к своему творчеству сквозь призму опыта моих персонажей, так что это было очень похоже на западную журналистику. Поэтому для меня было гармонично работать на «Би-би-си». Как писатель, вы обращаетесь к читателю с помощью персонажей; как журналист – делаете то же самое.
«Индекс»: Вы когда-то упомянули, что некоторые люди чувствуют себя более связанными с культурой своей родной страны и более гордятся ею после иммиграции. Вы испытываете подобные ощущения по отношению к Узбекистану?
Исмаилов: Да, испытываю. Да, я чувствую ответственность за свою культуру, потому что, когда думаю о своих предках, о моих бабулях и тётях, и обо всех людях, чей вклад в мою культуру был таким большим, – я понимаю, что должен вернуть что-то в эту культуру, которая сделала меня тем, кем я есть сегодня. Но в то же время я чувствую себя частью разных культур – русской культуры, и также английской культуры, – ведь я живу в Лондоне в течение последних 24 лет. Я так долго не жил на одном месте. Поэтому я отдаю дань уважения Великобритании и в долгу перед ней. Я пишу несколько романов на английском языке, чтобы также отдать дань уважения этой стране и её культуре.
Возможно, Узбекистан даже обязан поблагодарить Исмаилова.
Партнёр «Индекса цензуры» «Глоубэл джонэлист» – веб-сайт, который представляет свободу прессы в мировом масштабе и публикует международные новости. Он также готовит еженедельную радиопрограмму, которая выходит в эфир на радиостанции КБИЯ (КВIА), – партнёр НГР (NPR) в центральной части штата Миссури – и на партнёрских радиостанциях в шести других штатах. Веб-сайт и радиошоу готовятся совместно профессиональными сотрудниками и студентами Школы журналистики Миссурийского университета, самой древней школы журналистики в США.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Я молился о том, чтобы, если бы меня убили, оставили моё тело на виду… Таким образом, я не стал бы «десапаресидо» («пропавшим без вести»)».”][vc_single_image image=”98264″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Исхак Каракас, главный редактор местного еженедельника в Стамбуле «Халкын набзы» (Halkın Nabzı), любит вставать рано. Обычно он на ногах до рассвета, а к 8 уже возвращается с длительной прогулки, в которую отправляется с разношерстной толпой окрестных друзей. Тогда за завтраком он начинает проверять новости дня и пристрастно комментировать в «Твиттере» утренние репортажи.
20 января турецкие военные начали операцию в Африне, – сирийской территории, контролируемой курдами – аргументируя, что силы курдов в данном регионе являются сообщниками Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Каракас, как и многие другие, прибег к «Твиттеру», чтобы раскритиковать военное вторжение. Он воспользовался аккаунтом @ishakkakarakas_, который позже его сын, юрист Угур Каракас, закрыл.
«В Африне нет ни единой банды Исламского государства. Почему вы врете?», – спрашивал он у турецких политиков, которые заявляли, что силы курдов в Сирии – это на самом деле военные ИГИЛ. «Не верьте тому, что говорят об Африне по телевидению», – призывал он своих соотечественников в другом «твитте». Он также поделился постом, сообщающим, что в регионе от рук турецких военных погибли гражданские.
И тогда они за ним пришли.
«Было около полуночи. Отец уже спал. Меня не было дома, а мать была. Полицейские постучали в дверь с ордером на обыск», – рассказывает Каракас, адвокат в Стамбуле. Его отец был арестован 26 января по обвинению в «распространении террористической пропаганды» в «Твиттере». Сейчас он в тюрьме Силиври, но обвинительное заключение предвидится не скоро.
Страна без чувства юмора
Каракас, естественно, не единственный, кого возмутило начало турецких военных действий. Согласно данным Министерства внутренних дел Турции от 27 февраля, полицией было задержано 845 человек за критику операции в Африне, официально названной «Оливковая ветвь» (или как Министерству больше нравиться формулировать, за «распространение пропаганды террористической организации»). Министерство не назвало числа задержанных людей, которым формально предъявили обвинение или заключили в тюрьму, но судя по тому, что всех восьмерых задержанных вместе с Каракасом, арестовали, согласно судебным документам, эта цифра, вероятно, не будет низкой.
Каракас родился в Диярбакыре в 1960 году. Он закончил начальную школу и в 12 лет начал работать помощником водителей грузовиков. В 1989 году его вместе с женой Мюзеин и первенцем Угуром (Азадом), как и многих других курдов в то время, заставили переехать в Стамбул. Другие дети, Умут и Уфук, родились у них уже в городе. «Он – патриот, и всегда проникался политикой», – вспоминает Угур Каракас. Хотя он занимался логистикой до того времени, как кампания не обанкротилась вследствие финансового кризиса в Турции в 2000 году, Каракас всегда был поглощён политикой и писал статьи для прокурдской газеты «Озгюр гюндем» (Ӧzgür Gündem) и социалистической «Эвренсел» (Evrensel).
Жизнь в Стамбуле и «Халкын набзы»
Несмотря на занятие коммерческой деятельностью после переезда в Стамбул, он нашел время, чтобы закончить среднюю и высшую школу дистанционно. Согласно протоколу допроса, в настоящее время он студент-второкурсник факультета социологии университета дистанционного обучения Ачыкоретим. Он также позаботился, чтобы у его детей было хорошее будущее: один сын – юрист, другой – доктор. Самый младший ребёнок – студент-третьекурсник, изучающий компьютерную инженерию.
«Даже до того, как он стал журналистом, он всегда интересовался проблемами страны», – говорит Ахмет Тулгар, ветеран турецкой журналистики, который издавал «Халкын набзы» вместе с Каракасом на протяжении более 6 лет. Их дороги пересекались на встречах и собраниях до того, как они официально начали работать вместе. Когда Каракас покинул логистику и Тулгар оставил свою работу в газете «БирГюн» (BirGün) во второй половине 2000-х, они вместе учредили рекламную компанию в округе Малтепе, на окрестностях Стамбула, – местность, где сегодня издаётся «Халкын набзы».
«Он – семейный человек. Он приходил на работу после своей утренней прогулки и вечером шел сразу домой. В 2013 году мы решили издавать местную газету вместе. Мы не хотели, чтобы она была одной из многих, которые только докладывают, где пообедал мэр и повествуют о делах влиятельных людей в местном обществе», – говорит Тулгар.
И как такова, «Халкын набзы» начала своё существование. Тираж еженедельной газеты составляет 10 000 экземпляров. Её спонсируют местные предприниматели и городские власти. Газету распространяют в Анатолийской части Стамбула. Опираясь на взгляды и личный опыт её учредителей, «Халкын набзы» делает акцент на качественном журнализме и ценит свою независимость превыше всего. Она докладывает о местных происшествиях в первую очередь, но в то же время освещает их значимость в национальном контексте. Как высказывается Тулгар, политика «Халкын набзы» определена «мирным журнализмом, который охватывает все слои общества и использует стиль, доступный для всех социальных групп». «Исхаковые «твитты», конечно, не отображают нашу редакторскую политику», – быстро добавляет он.
Семейный человек
«Они не в тюрьму должны были посадить его, а вознаградить за то, что он изобрел формулу мира в этой стране», – говорит Тулгар. Он рассказывает, что люди, которые составляли Каракасу компанию по утрам (он в их число не входил, поскольку любит поспать) – представители очень разных и зачастую оппозиционных политических сил.
«Он – мирный человек. Наверное, это можно сказать обо всех, но он хотел быть солдатом мира. К сожалению, они посадили такого человека в тюрьму», – говорит Тулгар. Он также шутя жалуется, что ему и Угуру приходится питаться фаст-фудом последние несколько недель. «Он всегда готовил нам ланч в офисе. Иногда люди в нашем здании заходили и спрашивали, можно ли им покушать то, что он приготовил, если они не смогли найти, что заказать в тот конкретный день».
Для Тулгара отсутствие Каракаса – намного больше, чем недостающий отличный и полезный ланч. Когда они только начинали работу в газете, первые несколько лет они были в основном сами. «Мы так долго работали вместе, что, конечно, это очень трудно», – говорит он, немного раздосадованный «необдуманными» «твиттами» своего друга.
Тулгар не рассказывает о том, как он и его теперь заключенный друг вместе переживали стрессовые моменты выпуска публикаций и какую смелость они проявляли, пытаясь производить хороший журнализм в одной из стран, где это делать наиболее опасно. Они были вместе на поле битвы, а теперь один в тюрьме.
Угур Каракас утверждает, что даже если его отца признают виновным, его отпустят, потому что хотя пропаганда наказуема двумя годами заключения, но обычно такие заключения условные в судебных производствах в Турции.
«У него огромная семья. Он дедушка и скоро станет им во второй раз. Угур хочет жениться этим летом», – добавляет Тулгар.
В рамках более широкой турецкой реальности, где 153 журналиста в тюрьме и шестеро были приговорены к пожизненным заключениям без возможности досрочного освобождения только две недели назад, знать, что Каракаса могут освободить на первом судебном слушании дела, – очень утешительно.
Тулгар говорит медленнее и едва слышно: «Мурат Сабунджу из «Джумхуриет» (Cumhuriyet), просто бесценный человек, Ахмет Шик, отличный журналист, который никогда не преследовал личных интересов и не гонялся за славой, и Акин Аталай – все в тюрьме. Осман Кавала также в тюрьме. Столько замечательных людей в тюрьме, что как-то даже неудобно жаловаться: «ой, мой друг в тюрьме полтора месяца». [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Я молился о том, чтобы, если бы меня убили, оставили моё тело на виду… Таким образом, я не стал бы «десапаресидо» («пропавшим без вести»)».”][vc_single_image image=”98410″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Единственный новостной веб-сайт феминисток в Турции отмечает Международный женский день, пребывая под государственной цензурой. Доступ к сайту «Жин ньюз» («Jin» («жин») означает «женщина» на курдском языке), который базируется в городе Диярбакыр, полностью управляется женщинами и специально фокусируется на новостях, касающихся женщин, был заблокирован семь раз в течение только одной недели в конце января. В настоящее время доступ к сайту из территории Турции закрыт.
Однако это давление не обескуражило журналистов «Жин ньюз». «Мы всегда показывали, что у нас есть альтернативы, и мы продолжаем это демонстрировать», – рассказала «Индексу цензуры» редактор «Жин ньюз» Беритан Элякут. Опираясь на социальные сети и используя VPN, «Жин ньюз» анонсировал выпуск нового телеканала в ознаменование символического дня, который имеет для них двойное значение. «ЖИНХА» (JINHA), первое турецкое информационное агентство, управляемое женщинами, также было создано в Международный женский день шесть лет назад.
К прессингу им было не привыкать: они были закрыты не один раз, а дважды – больше, чем любое другое турецкое новостное издание при нынешнем чрезвычайном положении. В первый раз «ЖИНХА» было закрыто правительственным указом в октябре 2016 года. Газете «Шужин» (Şujin), преемнику «ЖИНХА», разрешили просуществовать только девять месяцев – другим указом ее закрыли в августе 2017 года.
Но все же «Жин ньюз» возродился из праха, переняв наследие «ЖИНХА» – стиль написания новостей, который представляет женщин «как субъекты, а не объекты». Сайт заботится о том, чтобы использовать точный язык, например, употребляя слово «убит» вместо «погиб», чтобы подчеркнуть насилие среди мужчин. Они также избегают подчеркивать детали, которые косвенно оправдывают насилие в отношении женщин (например, путем отказа от замечания, что жена добивалась развода) или избегают ненужных деталей в описании случаев сексуального нападения. Вслед за тем существует строгое использование имен вместо фамилий – практика, предпринятая в настоящей статье, чтобы читатель получил представление об их методологии.
«В новостных статьях о женщинах нам следовало все продумать до мельчайших подробностей. Мы решили не использовать фамилии, чтобы нарушить представление о том, что семейная родословная произошла от мужчин. Если мы напишем «Беритан Элякут» в начале статьи, чтобы представить человека, мы тогда используем имя, отличающее этого человека как субъекта», – рассказала Беритан. Даже самым высокопоставленным должностным лицам, в том числе двум бывшим сопредседателям про-курдской Демократической партии народов (HDP), которые в настоящее время находятся под арестом, Фиген Юксекдаг и Селахаттину Демирташу, не удалось избежать этого правила.
Этот подход также предусматривал другую методику выбора тем. «Мы не просто освещаем новости о сексуальных нападениях, насилии или домогательствах. Мы начали публиковать статьи, отражающие женщин как сильных людей. Мы сообщали о женщинах-новаторах. Мы сосредоточились на новостях экономики и экологии. Мы сделали женщин видимыми в политике, обратили на них внимание и дали им возможность высказать свое мнение», – говорит Беритан.
«Наш народ знает, как жить в сложных обстоятельствах. Курдские женщины знают, как сопротивляться. Агентство «ЖИНХА» было закрыто, и газета «Шужин» была создана. «Шужин» закрыли, и был создан сайт «Жин ньюз», а это значит, что мы можем снова и снова заново открывать себя».
Поощряя женщин высказываться
Чтобы гарантировать, что голоса женщин не приглушены, «Жин ньюз» использует в своих статьях эксклюзивные свидетельства и цитаты женщин. Когда репортёр Жерибан Аслан разговаривает с людьми на популярном рынке Баглар в Диярбакыре, то, как она рассказывает «Индексу цензуры», реакция собеседниц всегда очень позитивная, когда она представляется журналисткой курдского информационного агентства, освещающего новости о женщинах.
Придя на рынок, Жерибан и её коллега Ренгин Азизоглу спокойно прогуливаются, приглядываясь к женщинам, ходящим по магазинам. Предметом их репортажа является уничтожение общественного оздоровительного центра, превращенного в полицейский участок назначенным правительством доверенным лицом после того, как демократически избранные муниципалитетом сопредседатели мэра были брошены в тюрьму.
Результат не заставляет себя долго ждать, как только они входят в сувенирный магазин. Одна из продавщиц соглашается на интервью. «В обществе бытует стереотип, что женщина не может работать. Вы нарушили его», – говорит Жерибан. «Безусловно», – отвечает женщина без колебания. Когда интервью подходит к концу, Жерибан спрашивает её, есть ли у нее какие-либо пожелания другим женщинам. «Они обязательно должны работать», – говорит продавщица. «Они не должны подчиняться мужчинам».
«Женщины чувствуют себя комфортно и уверенно, когда разговаривают с нами», – рассказывает Жерибан. «То, что мы представляем курдское информационное агентство, также помогает».
«Из какого Вы издания?» – спрашивает её какой-то мужчина, когда Жерибан выходит на улицу из магазина. «Мы представляем свободные СМИ», – отвечает Жерибан, используя выражение, которым курды обозначают собственные СМИ. «Ах, мы Вам более чем рады», – говорит собеседник.
Редактор курдскоязычной версии «Жин ньюз» Мюневвер Карадэмир также подчёркивает важность фактора поощрения. «Когда вы придаете им уверенности для самовыражения, женщины заключают вас в объятия», – рассказывает Мюневвер. «Когда вы говорите любой продавщице магазина, что «я представляю агентство, возглавляемое женщиной, и которое работает над проблемами женщин», её отношение к вам становится совсем другим. Она чувствует себя в безопасности. Она может рассказать вам, о чем сейчас переживает».
Журналистки «Жин ньюз» также стремятся поделиться своим ноу-хау с другими изданиями, особенно с мужчинами-журналистами. У них есть проект по подготовке словаря недискриминационного языка новостей. «Мы планировали собраться вместе с мужчинами и организовать тренинги «Как создавать новостную статью» и «Как использовать язык, учитывающий интересы женщин, в новостных статьях», но не смогли из-за обстановки [в регионе]», – говорит Беритан.
Однако даже простое присутствие журналисток «Жин ньюз» уже начало повышать некоторый уровень осведомленности. «Некоторые журналисты, в большинстве мужчины, спрашивают нас: «Не могли бы вы проверить эту статью и посмотреть, использовали ли мы точный язык?» Теперь они понимают эту проблему», – рассказала журналистка. Один из самых важных успехов Беритан заключался в том, чтобы показать, что женщины более чем способны заниматься журналистикой – зачастую лучше, чем мужчины. «Мы видели, что женщины тоже быстро работают. Но они также быстро стремятся поделиться новостью наилучшим образом. Они дотошны».
Женщины-журналисты создают платформу против давления
По словам Беритан, стратегия «Жин ньюз» по сбору женских голосов была более успешной на востоке, чем на западе Турции. Это результат строгой политики паритета сопредседателей, начатой Демократической партией народов, которая гарантировала руководящие должности для женщин в курдских муниципалитетах. Однако после того как доверенные лица заняли большинство муниципалитетов, возглавляемых Демократической партией народов, «Жин ньюз» не только потеряло своих собеседников (большинство доверенных лиц оказались мужчинами), но и лишилось важного источника дохода, ведь многие женщины-сопредседатели обеспечивали подписку муниципалитета на их услуги и поощряли деятельность агентства.
Со времени попытки военного переворота в городских центрах страны, журналисты стали мишенью для органов государственной безопасности, а их аресты и задержания стали распространенной практикой.
«Государство хотело изолировать нас у себя в стране посредством арестов. Когда это не сработало, они попытались полностью закрыть информационные агентства», – говорит Беритан, узнав, что одна из её журналисток, Дуркет Сюрен, обвиняется в «членстве в террористической организации и ее финансировании» после задержания несколькими днями ранее на обычном контрольно-пропускном пункте. Дуркет была в конечном итоге освобождена по решению суда, но была подвергнута запрету на поездки и приказу регулярно отмечаться в полицейском отделении.
Дуркет является не единственной журналисткой «Жин ньюз», обвиняемой в уголовных преступлениях. Бывшая репортёр «ЖИНХА» Зехра Доган в настоящее время отбывает тюремный срок в два года и девять месяцев за «распространение пропаганды террористической организации». Она была осуждена за публикацию в декабрьской статье 2015 года свидетельских показаний 10-летней девочки, пострадавшей от турецкой военной операции в городе Нусайбин. Также художница Зехра получила тюремный срок за «нанесение турецких флагов на разрушенные здания» в картине, скопированной с реальной фотографии, на которой можно увидеть турецкие флаги на зданиях, разрушенных турецкими силами безопасности. Беритан Канозер, журналистка агентства в Стамбуле, и Айсель Ишик также недавно отбывали тюремное заключение. Многие из них были задержаны, и около 10 журналисток в настоящее время находятся под судом. Агентство также получает регулярные угрозы.
Айше Гюней, репортёр курдского агентства «Месопотамия» (Mezopotamya) и пресс-секретарь одноименной женской журналистской платформы, рассказала «Индексу цензуры», что государственное насилие стало обычной практикой. «В провинции, например Ширнак, наши репортёры постоянно подвергаются словесным преследованиям или угрозам. Многие избегают идти в одиночку в деревни или в определенные районы. Им угрожают – от угроз похищения до насилия или изнасилования. На сегодня угрозы устные, но это серьезные попытки запугать журналисток», – говорит она.
Платформа была создана в 2017 году в другой символический день, 3 мая – в День свободы печати – для того, чтобы женщины могли бороться с общими проблемами вместе. К ним относятся социальные проблемы, такие как безработица после повторного закрытия курдских СМИ в Диярбакыре, а также борьба против всех видов насилия. «Благодаря этому объединению мы хотели помочь нашим друзьям, задержанным, арестованным или подвергнутым домогательству от источников информации, подвергнутым нападениям или насилию со стороны полиции. Мы также хотели сделать это давление публичным», – рассказала Айше.
Последним журналистом-женщиной, арестованной полицией, является Седа Ташкин, которая делала репортаж в провинции Муш. Седа была впервые выпущена на испытательный строк, но ее арестовали через месяц в Анкаре из-за репортажей и твитов.
По словам Айше, не случайно, что женский журналистский эксперимент начался в Диярбакыре, а не, как ожидали некоторые, – в Стамбуле. «Наш народ знает, как жить в сложных обстоятельствах. Курдские женщины знают, как сопротивляться. Агентство «ЖИНХА» было закрыто, и газета «Шужин» была создана. «Шужин» закрыли, и был создан сайт «Жин ньюз», а это значит, что мы можем снова и снова заново открывать себя», – говорит Айше. «Мы говорим здесь о свободе женщин, а не о гендерном равенстве. Это тема, которая выходит за рамки данной проблемы».
Айше также рассказала, что хотела бы призвать всех женщин-журналистов в Турции участвовать в совместном движении. «В стране почти нет журналистов, которые бы не прибывали под судом. Либо они попали в тюрьму или вышли из нее, либо должны регулярно отмечаться в полицейском отделении каждые два или три или даже пять дней. Это означает, что они не могут покинуть город, который становится тюрьмой под открытым небом», – говорит Айше. «Но это происходит не только с курдами. Это происходит везде. Так что пришло время действовать вместе».
Озгун Озчер
Озгун Озчер работает журналистом и администратором «Платформы независимой журналистики» (P24), базирующейся в Стамбуле. Он работал в нескольких турецких СМИ, включая «Тараф» (Taraf), «Хюрриет дейли ньюз» (Hürriyet Daily News) и «Биргюн» (Birgün). Он также работал в таких негосударственных организациях, как турецких представительствах ЮНИСЕФ (UNICEF) и «Международной амнистии» (Amnesty).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Я молился о том, чтобы, если бы меня убили, оставили моё тело на виду… Таким образом, я не стал бы «десапаресидо» («пропавшим без вести»)».”][vc_single_image image=”98015″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Эта статья входит в серию «Проект изгнания», разрабатываемого партнёром «Индекса цензуры» (Index on Censorship) «Глоубэл джонэлист» (Global Journalist), в которой опубликованы интервью с живущими в изгнании журналистами со всего мира.
Члены картеля Синалоа совершили ошибку, и теперь они хотели её использовать в своих интересах.
Это произошло в июле 2010 года, когда мексиканский телеоператор Алехандро Эрнандес Пачеко и его коллега освещали беспорядки в тюрьме города Гомес-Паласио в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Когда они выехали из тюрьмы, их машину остановили боевики Синалоа, ошибочно принявшие двух журналистов за конкурентов с картеля Сетас.
В то время картель Синалоа, возглавляемый печально известным наркобароном Хоакином «Эль Чапо» Гусманом, вёл кровавую битву за маршруты наркотрафика в северной Мексике. Только в 2010-м году в Мексиканской нарковойне погибло более 15 000 человек. По данным «Рейтер», в близлежащем родном городе Эрнандеса –Торреоне, где тот работал на местной телестанции «Телевиса» («Televisa»), в 2011 году было совершено 990 убийств, по сравнению с 62 пятью годами ранее.
Члены Синалоа вынудили Эрнандеса и его коллегу выйти из машины и затолкали их в багажник.
«Они сказали, что собираются нас убить, потому что думают, что мы работаем на другой картель, – рассказывает Эрнандес в интервью «Глоубэл джонэлист». «Мы сказали им, что работаем в «Телевиса» и показали свои телефоны, оборудование, микрофоны и все такое. И они увидели, что мы говорим правду».
Это не значит, что пленники были в безопасности. В течение нескольких дней Эрнандеса и двух других похищенных журналистов периодически развозили по тайным убежищам Синалоа, там их избивали и угрожали смертью. Эктор Гордоа, репортёр «Телевиса» из Мехико, который работал с Эрнандесом, был освобождён при условии, что подготовит репортаж о сотрудничестве между правительственными чиновниками и соперниками картеля из Сетас. Эрнандес и его коллега – журналист Хавьер Каналес – удерживались картелем в качестве заложников.
Когда «Телевиса» отказались обнародовать доклад Гордоа, появилось опасение, что Эрнандес и Каналес будут убиты. Но они были освобождены. По словам Гордоа, картель решил, что убийство журналистов принесёт Синалоа больше вреда, чем пользы.
Что касается Эрнандеса, то он и его семья бежали в США, где в 2011 году им было предоставлено убежище. На сегодняшний день он работает оператором в Колорадо. С помощью переводчика Эрнандес рассказал Астригу Агопяну с «Глоубэл джонэлист» о своём похищении и бегстве. Ниже отредактированная версия их интервью:
«Глоубэл джонэлист»: Как влияли картели на Вас как журналиста, прежде чем Вас похитили?
Эрнандес: Все было хорошо и нормально, прежде чем началась война между наркоторговцами около десяти лет назад. Торреон был маленьким городом в мирной провинции. Но в 2007 году туда пришло насилие. Там было много наркоторговцев, но проблем не было, потому что местным жителям не было до них дела, а им не было дела до жителей. Но другой картель, Сетас, прибыл в город с северо-востока страны.
И тогда началась война между ними и бандой Эль-Чапо из картеля Синалоа. Начались убийства, похищения людей … и именно тогда страх начал распространяться среди населения. Убийства происходили каждый день. Убийства с особой жестокостью. Убивали не выстрелом в голову, а обезглавливали или выкалывали глаза.
«Гдж»: как средство массовой информации, где Вы работали, освещало эти события?
Эрнандес: Поначалу все было в порядке. Мы могли освещать убийства и не называть имена журналистов из команды, которая работала над репортажем в целях безопасности. Мы начали привыкать к господству наркоторговцев, войне, ко всем погибшим.
Проблемы начались в 2009 году, когда мой коллега Элисео Баррон был похищен и убит. Он работал криминальным репортёром в газете Торреоне. Мы знали, что это сделали наркоторговцы, но не знали, какая именно банда.
Убийства происходили за пределами телевизионных станций и газетных редакций. Они использовали «манты», кусочки ткани, на которых было написано, что то, что случилось с Элисео, произойдёт и с другими, если они не замолчат. Поэтому многие журналисты начали бояться.
«Гдж»: Над каким репортажем Вы работали, когда Вас похитили?
Эрнандес: Приехал журналист из Мехико, который работал в [национальной] программе «Отправная точка» (“Punto de Partida”). Ведущий программы отправил журналистов в Торреон для освещения деятельности наркоторговцев. Репортёр [Эктор Гордоа] прибыл на место, но без оператора, потому что тот опоздал на самолёт. Он пришёл просить о помощи на станцию «Телевиса», где я работал. Меня попросили пойти вместе с ним.
Мы намеривались взять интервью у мэров трёх городов: Лерго (штат Дуранго), Гомес-Паласио (штат Дуранго) и Торреона. Встреча с мэром Гомес-Паласио заняла много времени. Когда мы уходили, нам сообщили, что в «Сефересо» (CEFERESO) (федеральной тюрьме) начался бунт.
Мы решили съездить в тюрьму и провести ряд интервью. Там было много плачущих родственников заключённых, потому что были сообщения о выстрелах внутри тюрьмы, и много силовиков. Но присутствие армии и сил безопасности придавало нам ощущение безопасности.
Когда мы [Эрнандес и Гордоа] покинули этот район, было около трёх часов пополудни. Мы проехали две мили, а на светофоре нас перехватил автомобиль, с которого вышли вооружённые люди и сели в нашу машину. Они затолкали меня и моего коллегу в багажник.
«Гдж»: Что произошло дальше?
Эрнандес: Они сказали, что собираются нас убить, потому что считают, что мы работаем на другой картель [Сетас]. Мы ответили, что работаем в «Телевиса» и показали свои телефоны, оборудование, микрофоны и все такое. И они увидели, что мы говорим правду.
Они все ещё продолжали твердить, что убьют нас. Нам завязали глаза тряпками, связали руки и ноги. Затем нас бросили в грузовик и сделали несколько телефонных звонков. Я не знаю, звонили ли они Эль-Чапо или кому-то другому.
В понедельник [26 июля 2010 года], когда нас похитили, бандиты позвонили в «Телевиса», сообщили, что мы у них, и нас убьют, если канал будет продолжать транслировать репортажи о Синалоа. Они сказали, что хотят, чтобы мы сделали видео для «Ютьюба» (YouTube) , в котором будем обвинять Сетас в сотрудничестве с правительством [штата] Коауила.
Мы сделали 15-минутное видео во вторник, и «Телевиса» транслировала его поздно вечером. В тот момент никто не знал, что мы были заложниками, кроме моей семьи, семей других заложников и «Телевиса».
«Гдж»: Значит, они использовали вас, чтобы попытаться шантажом заставить «Телевиса» передавать репортажи, которые могли бы навредить соперничающему картелю?
Эрнандес: В среду они захотели, чтобы мы записали ещё один репортаж [о связях Сетас с другими правительственными чиновниками]. Но «Телевиса» отказался, ответив: «Мы не будем нести ответственность, если с ними что-то случится, потому что мы [канал] не можем оставаться заложниками наркоторговцев».
Полиция якобы искала нас. Мы ожидали, что она нас освободит. Бандиты держали нас в комнате размером 4 на 4 метра. В комнате были три журналиста, три похищенных полисмена и один таксист. Всего семь. Было лето, и стояла ужасная жара. Нам дали немного воды, но ничего из еды. Если вы хотели спать или сидеть, вам нужно было попросить разрешения. Мы не могли сходить в туалет – его заменяла банка с-под краски, вот и все.
Нас пытали психологически, угрожая, что убьют нас. Если [наркоторговцы] убьют вас днём, ваше тело оставят на улице. Но если ночью, труп спрячут.
Я действительно надеялся, молился о том, чтобы, если бы меня убили, оставили моё тело на виду, чтобы люди нашли и узнали меня. Таким образом, я не стал бы «десапаресидо» («пропавшим без вести»). Это намного хуже для семьи, хуже, чем знать, что вы действительно мертвы.
Мы очень устали, но не могли спать по ночам, потому что боялись, что нас заберут и убьют.
«Гдж»: Как Вас отпустили?
Эрнандес: Журналиста из Мехико [Эктора Гордоа] освободили в четверг [29 июля 2010]. Нас [Каналеса и Эрнандеса] отвезли в другое тайное убежище. Мы не держались на ногах, шли как пьяные, потому что в течение нескольких дней не ели и не пили. Не было сил. Нас бросили в тёмную заброшенную комнату, похожую на ванную. Было темно, но помню, что там были тараканы и какие-то твари.
Была полночь, и мы просто хотели, чтобы нас убили, потому что так устали от всей неопределённости. Однажды бандиты намеревались убить нас, потом отказались, затем снова собирались.
Мы начали кричать, потому что по соседству были люди. Мы кричали: «Мы хотим воды! Мы хотим воды!»
Мы попытались убежать, попробовали открыть дверь. Кто-то прибыл на грузовике, и нас начали избивать. Всё, что похитители не делали с нами за прошедшие дни, они сделали той ночью. Нам связали проволокой руки и ноги.
После избиения они очень хорошо относились к нам. Нам дали воду и в пятницу вечером отвезли в другое убежище. По всей комнате, куда нас бросили, была кровь. Даже был скальп. Мы решили, что именно там пытали и убивали людей.
Среди них был человек, заботящийся о нас, который даже дал нам воду… галлон воды каждому. Я сказал себе: «Я хочу убежать, не позволю им просто убить меня».
Но побег не удался. Я был спокоен, потому что, по крайней мере, я попытался. Это был момент, когда я, наконец, смог спать. Я не знаю, сколько часов проспал.
В то время правительство и картель Эль-Чапо, должно быть, вели переговоры [о нашем освобождении]. Затем бандиты вернули нас в тайное убежище, где мы были ранее. Федеральная полиция уже была там. Казалось, они были там, чтобы прикинуться, что это операция по освобождению заложников – я не знаю точно: опоздали ли наркоторговцы, возвращая нас, или полиция приехала раньше времени. [Когда нас передали,] полиция сказала: «О, это вы, ребята! Где вас содержали? Как дела?»
Это было как в фильме. Мы были свободны.
Полиция отвезла нас на пресс-конференцию в Мехико. Они сказали, что освободили нас без единого выстрела, и что наркоторговцы ничего нам не сделали, нас отпустили, потому что [правительство] попросило их.
«Гдж»: Как Вы решили отправиться в США?
Эрнандес: Они освободили меня [31 июля 2010, суббота] и полиция отвезла меня в Мехико. Я провёл около 20 дней в Мехико с семьёй.
Полиция поймала некоторых подозреваемых. Это были те, кто держал нас в плену. Мы узнали их. Но вы знаете, что для наркоторговцев эти парни с оружием – просто пушечное мясо. Главарь их сдал.
За то время я звонил в Эль-Пасо, штат Техас, где у меня есть родственники. Они свели меня с отличным адвокатом, который спас мою жизнь. Я посоветовался с женой и адвокатом, и мы решили не возвращаться в Торреон. Я ехал сначала в грузовике, потом на автобусе, затем шёл пешком.
22 августа я пересёк границу в Техасе с туристической визой, а затем начал процедуру получения политического убежища. 23 августа [члены картеля Синалоа] начали искать меня. 24 августа моя жена пересекла границу вместе с нашими маленькими детьми. Мы только взяли маленькую сумку с детской одеждой и папку со всеми доказательствами того, что со мной произошло, фотографиями и статьями в газетах. Я попросил убежища в Хьюстоне.
«Гдж»: Как обстоят Ваши дела сейчас?
Эрнандес: Сейчас я – резидент США. Мне бы хотелось вернуться [в Торреон], но я не могу. Я зол на всех, на полицию и на наркоторговцев, потому что мои сыновья вынуждены были оставить наш родной дом.
Мои дети придали мне много мужества. Трудно было привыкнуть к другой культуре. Мои сыновья теперь ходят в школу и говорят по-английски. Когда я приехал, то работал на местной испаноязычной телестанции в Эль-Пасо до 2015 года. Потом мне предложили работу в Колорадо, где теперь я живу с семьёй и работаю оператором. Я очень благодарен этой стране, потому что я приехал с маленьким чемоданом, а теперь у нас есть дом. У меня здесь есть возможности.
Партнёр «Индекса цензуры» «Глоубел джонелист» – веб-сайт, который представляет свободу прессы в мировом масштабе и публикует международные новости. Он также готовит еженедельную радиопрограмму, которая выходит в эфир на радиостанции КБИЯ (КВIА), – партнёр НГР (NPR) в центральной части штата Миссури – и на партнёрских радиостанциях в шести других штатах. Веб-сайт и радиошоу готовятся совместно профессиональными сотрудниками и студентами Школы журналистики Миссурийского университета, самой древней школы журналистики в США.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Я молился о том, чтобы, если бы меня убили, оставили моё тело на виду… Таким образом, я не стал бы «десапаресидо» («пропавшим без вести»)».”][vc_single_image image=”101034″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Эта статья входит в серию «Проект изгнания», разрабатываемого партнёром «Индекса цензуры» (Index on Censorship) «Глоубэл джонэлист» (Global Journalist), в которой опубликованы интервью с живущими в изгнании журналистами со всего мира.
Выпрыгнуть на ходу из машины под дулом пистолета, чтобы избежать похищения пакистанскими военными – не так журналист Таха Сиддики планировал начать свою поездку в Лондон.
Сиддики, тогдашний пакистанский корреспондент сети «Франс 24» (France 24) и индийского новостного сайта «Велд из Ван Ньюз» («WION»), разозлил вооружённые силы Южной Азии своими репортажами о национальной безопасности и критическими постами в социальных сетях.
10 января он оказался в неприятной ситуации, когда ехал в аэропорт на такси «Карим» (популярный мобильный сервис в столице Пакистана Исламабаде). Машина с вооружёнными людьми заставила такси остановиться. Сиддики избили у шоссе, а потом, силой затолкав в заднюю часть машины, увезли.
Пакистанские СМИ известны оживлённым и разнообразным освещением новостей. Однако журналисты в этой стране сталкиваются с угрозами от не только таких экстремистских группировок, как «Талибан», но и от армии и спецслужб.
Страна занимает 139-е место из 180 стран мира по Индексу свободы прессы «Репортёров без границ». В последние месяцы таким независимым СМИ, как «Гео ТВ» (Geo TV) и газете «Дон» (Dawn), заблокировали трансляцию и распространение тиража. Ранее в этом месяце два журналиста подверглись нападению в Лахоре вскоре после того, как представитель вооружённых сил осудил «антигосударственные» выступления журналистов в социальных сетях.
Как рассказал Сиддики репортёру «Глоубэл джонэлист», ему удалось убежать от своих похитителей и сообщить о нападении в полицию. Попытка похищения была не первым случаем, когда у Сиддики был конфликт с военными Пакистана. В 2015 году ему угрожали после того, как он написал в соавторстве длинную статью в «Нью-Йорк таймс», в которой подробно излагалось о причастности военных к исчезновению десятков подозреваемых в принадлежности к пакистанским талибам. Автор статьи утверждал, что некоторых из этих исчезнувших людей морили голодом, подвергали пыткам и убивали.
Ему также угрожали после того, как он помог подготовить репортаж для «Франс 24», в котором критиковались действия пакистанской армии во время теракта в Пешаваре в 2014 году, в результате которого погибло более 150 человек. Сиддики также столкнулся с прессингом в прошлом году после публикации твитов, критикующих «прославление» армией бывших диктаторов и отбеливание собственной роли в разжигании войны с Индией в 1965 году.
В мае 2017 года журналиста вызвали на допрос в контртеррористический департамент федеральной полиции, несмотря на постановление суда, запрещающее правоохранителям преследовать его. В сентябре Сиддики вызвали на встречу с военным представителем генералом Асифом Гафуром. В интервью Сиддики рассказал, что Гафур ему пригрозил – если тот не прекратит критику, то «у меня будут проблемы».
Гафур не ответил на сообщения от «Глоубэл джонэлист», требующие комментариев. Однако проблем не было до январского нападения, и поэтому Сиддики не может указать на один конкретный инцидент как на причину.
«Я не знаю, какой конкретный сюжет, статья или видео спровоцировали нападение», – говорит он в интервью «Глоубэл джонэлист». «Возможно, единственной причиной была моя активность в социальных сетях?»
Через несколько недель после нападения Сиддики решил уехать из Пакистана во Францию по соображениям безопасности. Он рассказал, что перед отъездом встретился с тогдашним министром внутренних дел Пакистана Ашаном Икбалом.
– Икбал, – говорит Сиддики, – сказал журналисту, что тот должен написать письмо генералу армии Пакистана генералу Камару Байве и попросить прощения.
Ни Икбал, ни Байва не ответили на наши просьбы о комментариях.
Сейчас 34-летний Сиддики живёт со своей женой и 4-летним сыном в Париже, где работает неполный рабочий день в медиа-компании «Бейбл Пресс» (Babel Press) и ищет работу на полный рабочий день. Он рассказал Розмари Белсон из «Глоубэл джонэлист» о нападении и бегстве со своей родины.
«Глоубэл джонэлист»: Можете ли Вы рассказать нам о репортажах, послуживших причиной Ваших неприятностей?
Сиддики: Военные участвуют в политической жизни Пакистана. У них есть частные предприятия, они нарушают права человека, влияют на систему образования.
Когда вы сообщаете в репортаже о какой-либо конкретной проблеме в Пакистане, обычно вы в итоге отслеживаете её истоки в армии, так или иначе. Невозможно делать репортаж, не говоря о военных и их участии в широком круге вопросов в Пакистане.
Расскажу о материале, который я сделал для «Нью-Йорк таймс». Он вышел на первой странице международной версии «Нью-Йорк таймс» в 2015 году. Это была статья о военных секретных тюрьмах, где убивали предполагаемых боевиков. Военные без суда убивали подозреваемых в тюрьмах. Я обнаружил около 100-250 случаев по всему Пакистану, особенно на территории племён федерального управления [на северо-западе Пакистана].
Даже в то время «Нью-Йорк таймс» считала, что очень опасно печатать статью под моим именем. Но я захотел, чтобы имя автора было указано, и это был первый раз, когда я начал получать прямые угрозы.
Всегда были косвенные сообщения, поступающие через друзей по журналистскому цеху или друзей в правительстве, в которых говорилось, что я должен быть осторожным… Стабильно время от времени эти угрозы поступали. Даже угрожали до такой степени, когда моим друзьям и людям, с которыми я общался, было приказано держаться от меня подальше.
«Гдж»: Расскажите нам подробно о попытке похищения.
Сиддики: 10 января я направился в аэропорт, чтобы полететь в Лондон по работе. За неделю до этого я работал над статьёй о пропавших без вести. Я собирался послать материал в редакцию из аэропорта, потому что у меня не было [времени] раньше, поэтому я взял [с собой] жёсткий диск и ноутбук.
Такси «Карим» прибыло около 8 утра, чтобы отвезти меня на рейс в полдень. На полпути в аэропорт на главной автомагистрали Исламабада какой-то автомобиль свернул перед нами и остановился. Люди, вооружённые пистолетами и АК-47, вышли из машины.
Сначала я подумал, что это был случай дорожной ярости или грабежа, но один из них подошёл с моей стороны, указал на меня пистолетом и сказал что-то вроде: «Ты кем себя возомнил?»
Я вышел и предположил, что это связано с угрозами, которые я получал ранее. Я попытался убежать, но они поймали меня на дороге. Вот тогда я заметил, что за мной стояла другая машина, с которой тоже вышли люди. Они взяли меня в кольцо, и это было [на] главной автомагистрали с уличным движением в полдевятого утра… они начали избивать меня и хотели меня забрать.
Я сопротивлялся, и они продолжали бить оружейными прикладами…, и пинали меня. Наконец, один из них сказал: «Прострели ему ногу, если он не перестанет сопротивляться, потому что мы должны его взять».
Вот тогда я понял, что они серьёзно намерены стрелять в меня. Ранее, [когда] они не стреляли в меня сразу, я подумал, что, возможно, это означает, что они хотят взять меня живым. Мысленно я решил, что сопротивление даст мне какой-то шанс на жизнь. Я увидел проезжающую мимо военную машину. Я звал на помощь, но она не остановилась.
После того, как пригрозили выстрелить в ногу, они посадили меня в такси, выдворив водителя. Один человек вёл машину, пока двое других сидели со мной сзади и один спереди. Меня держали через захват за шею, направив оружие в левую сторону живота.
Я сказал: «Я еду с вами. Можете ли вы немного ослабить захват и позволить мне передохнуть, [и] сесть прямо?»
Парень расслабил свою руку и давление пистолета. Вот тогда я понял, что правая задняя дверца автомобиля была незакрыта. Я пошёл на это и открыл её. Выскочил, побежал на другую сторону дороги с встречным движением. Попытался найти такси. Я слышал позади меня, что они кричали и говорили: «Стреляй!»
Но я просто побежал и, наконец, нашёл такси. Я в него запрыгнул, когда оно двигалось. Я открыл дверь, вскочил внутрь. Такси проехало 700 или 800 метров, прежде чем таксист понял, что что-то не так, и больше не хотел мне помогать. Меня попросили выйти, потому что в такси уже сидели какие-то пассажирки.
Я вышел из такси. На обочине были канавы и болотная зона, поэтому я перепрыгнул туда и ненадолго спрятался. Я снял свой красный свитер, чтобы меня не увидели … позже мы его отыскали там вместе с полицией.
Я нашёл ещё одно такси. Я попросил [водительский] телефон. Позвонил другу-корреспонденту и спросил его, что делать. Он предложил мне поехать в ближайший полицейский участок, и таксист меня отвёз. Я подал заявление, в котором назвал пакистанских военных подозреваемыми. Я также написал твит об этом происшествии с профиля моего друга, потому что нападавшие забрали мой телефон, паспорт, чемодан, ноутбук, сумку. У меня остался только мой кошелёк.
«Гдж»: Как Вы приняли решение покинуть Пакистан?
Сиддики: Полицейское расследование показало, что камеры [наблюдения] в том районе не работали. Полицейские обнаружили, что одна из машин, которые меня остановила, следовала за мной из самого дома, но они не смогли идентифицировать лиц внутри автомобиля, потому что [окна] были тонированы, а номерной знак был поддельным.
Меня пригласил [на встречу] министр внутренних дел Пакистана [Ашан Икбал]. Он предложил мне написать письмо командующему пакистанской армией [Генералу Камару Байве]. Вот тогда я понял, что правительство совершенно беспомощно.
Мне предложили уехать на некоторое время, потому что нападавшие не закончили работу, и они могут прийти за мной снова. Тем более, что я не собирался молчать, как предложили некоторые старшие друзья-журналисты, которые позже повернулись ко мне спиной во время этого испытания.
Это было очень неутешительно и удручающе, когда моё собственное журналистское сообщество не поддерживало меня. Международные СМИ поддерживали меня, некоторые местные журналисты поддерживали меня, но отдельные люди, которых я знал лично, полагали, что я ошибаюсь, активно высказываясь о нападении.
Я и моя жена … мы сели вместе и все обсудили. До этого мы ничего не рассказывали нашему ребёнку, но теперь я осторожно рассказал ему, что для меня существует опасность, и нам нужно переехать.
Мы решили, что должны бежать. Когда мы будем уезжать, это не на три или шесть месяцев, потому что я сражаюсь с невидимыми силами в моей стране. Я не буду знать, выиграл ли я или проиграл, продолжают они меня преследовать или нет.
Мы решили бежать в Париж, потому что последние семь или восемь лет я работал с французскими СМИ в качестве журналиста для «Франс 24». Я также получил французский эквивалент премии Пулитцера [премия Альбера Лондра] в 2014 году, поэтому у меня здесь есть сильная поддержка журналистского сообщества.
«ГДж»: Как изменилась свобода СМИ со временем в Пакистане?
Сиддики: Свобода прессы всегда подвергалась нападениям. Мы прошли через военные диктатуры в Пакистане… в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах.
В последние годы изменились две вещи. Во-первых, мы, как журналисты, не знаем, что такое границы дозволенного. В моем случае я не знаю, какой именно сюжет, статья или видео спровоцировали нападение. Возможно, единственной причиной была моя активность в социальных сетях?
Во-вторых, негосударственные субъекты сейчас активизируются против журналистов, поэтому [военные] могут скрываться за этими негосударственными субъектами и делать свою работу.
Военные добились того, что единство среди журналистов не такое прочное, как раньше. Они достигли этого благодаря финансовому воздействию или денежным вознаграждениям… это ещё больше сократило возможности для работы журналистов. Военные становятся все более нетерпимыми, и их тактика контроля над СМИ становится все более жестокой. Я вижу, что в ближайшее время ситуация ухудшится.
Все надо рассматривать в соответствующем контексте. Сейчас год выборов в Пакистане. Пакистанские военные хотят, чтобы все причастные манипулировали выборами для достижения стратегических успехов. Они не хотят, чтобы правящая партия [Пакистанская мусульманская лига (Наваз)] снова пришла к власти с таким же большинством голосов, что и сейчас. Поэтому, чтобы они могли легко манипулировать выборами, они пытаются создать атмосферу страха, из-за которой невозможна независимая журналистика.
Партнёр «Индекса цензуры» «Глоубел джонелист» – веб-сайт, который представляет свободу прессы в мировом масштабе и публикует международные новости. Он также готовит еженедельную радиопрограмму, которая выходит в эфир на радиостанции КБИЯ (КВIА), – партнёр НГР (NPR) в центральной части штата Миссури – и на партнёрских радиостанциях в шести других штатах. Веб-сайт и радиошоу готовятся совместно профессиональными сотрудниками и студентами Школы журналистики Миссурийского университета, самой древней школы журналистики в США.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Говорят, что все русские журналисты, которые поддерживают позицию Украины, могут быть убиты. Моё имя было в этом списке».”][vc_single_image image=”97735″ img_size=”full” add_caption=”yes”][vc_column_text]
Эта статья входит в серию «Проект изгнания», разрабатываемого партнёром «Индекса цензуры» (Index on Censorship) «Глоубэл джонэлист» (Global Journalist), в которой опубликованы интервью с живущими в изгнании журналистами со всего мира.
Ксения Кириллова думала, что её поездка в США будет лишь временной.
Когда она покинула свой родной русский город Екатеринбург весной 2014 года и переехала в Сиэтл со своим мужем украинцем, инженером программного обеспечения, у неё было мало опыта в международных вопросах.
Но ситуация изменилась, когда Россия начала открыто поддерживать сепаратистов в восточной Украине и в итоге захватила и аннексировала Крымский полуостров. Этот факт шокировал Кириллову, которая раньше работала на «Новую газету», независимое русское издание, известное своими расследованиями коррупции и критикой Кремля. У неё было много друзей в Украине, и она пыталась сделать всё для того, чтобы противостоять русской пропаганде, разжигающей военный конфликт.
Она начала писать про русскую пропаганду на веб-сайте «Новый регион», который часто критиковал президента Владимира Путина. Этот веб-сайт был основан её другом, российским журналистом Александром Щетининым. Щетинин учредил информационное агентство в 1990-х, но под давлением русского правительства был вынужден уйти из компании в 2014 году. Позже он снова открыл веб-сайт в Украине.
Кириллова была наслышана о трудностях, с которыми сталкивались журналисты, бросившие вызов российскому правительству. Согласно Комитету защиты журналистов, как минимум 58 журналистов были убиты в России с 1993 года. В это число входят несколько журналистов с «Новой газеты», которые умерли при загадочных обстоятельствах с 2000 года.
Жизнь в США была безопасной. Однако в августе 2016 Щетинин, называвший Путина «личным врагом», был найден мёртвым с простреленной головой в своей квартире в Киеве.
Предсмертная записка была найдена возле его тела. Кириллова не верит, что он сам покончил с жизнью. Украинские власти начали расследование убийства.
Вскоре поле смерти Щетинина она обнаружила пророссийский интернет-сайт, где был опубликован список имён «антироссийских экстремистов». Её имя было в этом списке. Возвращение в Россию теперь казалось не только опасным, но и потенциально смертельным.
Сейчас Кирилловой 33 года, она живёт в Окленде, Калифорния. Она является сотрудником русской службы радио «Свободная Европа/Радио Свобода», поддерживаемых США, и телеведущей украинской программы ТСН. Она разговаривала с международным журналистом Дживоном Чоем о смерти коллеги и её борьбе с пропагандой российских СМИ.
«Гдж»: Как на Вас повлиял конфликт России и Украины?
Кириллова: Все мои проблемы в России начались из-за моих действий в Америке. До моего переезда сюда я несколько лет работала в уральском отделении редакции «Новой газеты».
Я жила в родном городе Екатеринбурге. В Америку я переехала случайно, вместе со своим мужем, гражданином Украины, когда он получил временную работу по контракту в США. В то же время, в марте 2014 года, началась русско-украинская война.
Эти события меня настолько шокировали, что я почувствовала, что должна что-то предпринять. Я начала анализировать российскую пропаганду, их страхи и их менталитет. Самым важным для меня было предотвращение новых российских провокаций в мире.
«Гдж» Как изменился журнализм в России за последние несколько лет?
Кириллова: Живя в России, я иногда готовила репортажи на опасные темы. До войны российские СМИ тоже защищали режим Путина, но не так агрессивно, как сейчас. Говорить о правительстве было не настолько опасно. Мы (журналисты) могли честно писать о коррупции, рассуждать на политические и социальные темы. Местные власти не зависели от федеральных.
В 2010 году в моем регионе поменялось правительство. Была создана централизованная система управления и учреждена должность городского надзирателя, который назначался федеральными властями. Обсуждение социальных вопросов стало невозможным, потому что все проблемы вели к представителям государственной власти. Стало невозможным публиковать какие-либо критические статьи.
«Гдж»: Когда вы впервые услышали, что российское правительство преследует Вас и Александра?
Кириллова: Мой близкий друг Александр Щетинин предостерегал меня о том, что нам обеим грозит обвинение в государственной измене. Это было весной 2015 года. Российские власти обвиняли даже простых людей, домохозяек, продавцов, у которых не было никакого доступа к государственным секретам. Верховный суд Российской Федерации признал («Новый регион») экстремистским сайтом только из-за того, что он основывался в Украине и противостоял российской агрессии. Таким образом мы официально стали журналистами-орудиями «экстремизма».
Российское правительство возбудило уголовные дела против моих друзей, выходцев из Екатеринбурга, даже за невинные публикации, осуждающие войну в социальных сетях. Это и дало нам понять, что в России нас ожидает уголовное дело.
«Гдж»: Что Вы почувствовали, когда услышали о смерти Александра?
Кириллова: Александр был моим единомышленником, российским журналистом, который поддерживал Украину. Перед своей смертью он потерял большую часть бизнеса, и не мог навещать семью и взрослых детей, живущих в России. Он боролся с российской пропагандой и её агентами в Украине.
Я не верю в то, что это было самоубийство. Он умер через месяц после того, как в Киеве был убит ещё один российский оппозиционный журналист Павел Шеремет. После подозрительной смерти Александра в Киеве, я нашла статью на официальном сайте российской пропаганды, в которой говорилось о том, что все русские журналисты, поддерживающие Украину, могут быть убиты. Моё имя было в этом списке. Позже эту статью удалили.
«Гдж»: Что для вас является самым трудным в жизни изгнанника в США?
Кириллова: На протяжении долгого времени у меня не было разрешения на работу в США. Я два года ждала политического убежища, даже до убийства Александра, работая волонтёром, без оплаты. Сейчас всё наладилось, я получила разрешение на работу.
Я потеряла всё не из-за решения переехать сюда, а из-за того, что я начала здесь свою деятельность. Но у меня никогда не было иллюзий на эту тему.
Партнёр «Индекса цензуры» «Глоубэл джонэлист» – веб-сайт, который представляет свободу прессы в мировом масштабе и публикует международные новости. Он также готовит еженедельную радиопрограмму, которая выходит в эфир на радиостанции КБИЯ (КВIА), – партнёр НГР (NPR) в центральной части штата Миссури – и на партнёрских радиостанциях в шести других штатах. Веб-сайт и радиошоу готовятся совместно профессиональными сотрудниками и студентами Школы журналистики Миссурийского университета, самой древней школы журналистики в США.
[/vc_column_text][vc_column_text]This article is part of Index on Censorship partner Global Journalist’s Project Exile series, which has published interviews with exiled journalists from around the world.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://youtu.be/6BIZ7b0m-08″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Index on Censorship partner Global Journalist is a website that features global press freedom and international news stories as well as a weekly radio program that airs on KBIA, mid-Missouri’s NPR affiliate, and partner stations in six other states. The website and radio show are produced jointly by professional staff and student journalists at the University of Missouri’s School of Journalism, the oldest school of journalism in the United States. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Don’t lose your voice. Stay informed.” use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”black”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Index on Censorship is a nonprofit that campaigns for and defends free expression worldwide. We publish work by censored writers and artists, promote debate, and monitor threats to free speech. We believe that everyone should be free to express themselves without fear of harm or persecution – no matter what their views.
Join our mailing list (or follow us on Twitter or Facebook). We’ll send you our weekly newsletter, our monthly events update and periodic updates about our activities defending free speech. We won’t share, sell or transfer your personal information to anyone outside Index.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][gravityform id=”20″ title=”false” description=”false” ajax=”false”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content”][vc_column][three_column_post title=”Global Journalist / Project Exile” full_width_heading=”true” category_id=”22142″][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Я понимаю, что это было лучшее решение моей жизни, потому что я была бы сейчас в заключении, как и мои коллеги».”][vc_single_image image=”101086″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Эта статья входит в серию «Проект изгнания», разрабатываемого партнёром «Индекса цензуры» (Index on Censorship) «Глоубэл джонэлист» (Global Journalist), в которой опубликованы интервью с живущими в изгнании журналистами со всего мира.
Вскоре после того, как 4 марта 2016 года турецкая полиция в боевом снаряжении совершила налёт на штаб-квартиру «Медиа Группы Заман» (Zaman Media Group), Севги Акарчешме поняла, что у нее всего два выбора.
Акарчешме, главный редактор газеты «Тудейз заман» (Today’s Zaman), самого большого в стране англоязычного ежедневника, могла стать проправительственной журналисткой и заниматься публикацией статей, восхваляющих все более и более авторитарный режим президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Или она могла бежать из страны и попробовать высказаться в ссылке. Менее чем 48 часов спустя Акарчешме садилась на самолет в Брюссель, чтобы избежать грозящего ей заключения.
«Я не хотела превратиться в проправительственного журналиста и потерять свою справедливость», – рассказывает она в интервью с «Глоубел джонелист». «Я потеряла всё, но не справедливость».
Правительственному захвату «Заман Групп», медиакомпании близкой по духу к оппозиционному движению «Хицмет» под предводительством проповедника в изгнании Фетхуллаха Гюлена, предшествовали масштабные репрессивные меры в отношении СМИ, гражданского общества и других, последовавших за неудавшимся переворотом против Эрдогана два месяца спустя. В целом, согласно докладу Государственного департамента США о защите прав человека, в 2016 году в Турции было задержано более чем 140 журналистов, сотни других потеряли работу. Почти 4 000 человек были обвинены в оскорблении президента, премьер-министра или государственных институтов. Согласно заявкам Комитета защиты журналистов, в декабре 2017 года в Турции находились в заключении 73 журналиста – наивысшее число в мире.
И действительно даже в то время, когда Акарчешме выезжала из страны, администрация Эрдогана уже превратила турецкое издание «Заман» в проправительственный рупор.
Но даже до нападения на офисы «Заман», Акарчешме сталкивалась с юридическим давлением со стороны правительства. В начале 2015 года она предстала перед судом за «оскорбление» действующего тогда премьер-министра Ахмета Давутоглу, которого она в «твитте» обвинила в укрывательстве коррупционного скандала, участниками которого являлись члены семей высокопоставленных чиновников.
Однако только тогда, когда «Заман» закрыли в 2016 году, стало очевидно, что правительство Эрдогана больше не будет терпеть независимые средства массовой информации. Даже после того, как Акарчешме выехала в Бельгию, турецкие власти продолжали карательные меры против неё, совершивши налёт на её квартиру в Стамбуле и аннулировавши ее паспорт. Акарчешме, которой сейчас 39 лет, провела более года в Бельгии до того, как в мае 2017 года, переехала в США.
Сейчас она проживает в США и работает фриланс-журналистом, но ищет постоянную работу. Она разговаривала с Лили Кьюзак с «Глоубел джонелист» об её ссылке.
«Гдж»: Как в конечном итоге вы покинули Турцию?
Акарчешме: Вы можете себе представить, что это долгая история, потому что Турция стала диктаторской страной не за один день. Так что, как и всё другое, это был процесс. Это был быстрый процесс, но все же процесс.
6 марта 2016 года я покинула Стамбул внезапно. Два дня до моего отъезда правительство под руководством Эрдогана захватило нашу газету по обвинению, конечно нелепому обвинению, в терроризме и поддержке терроризма. И поскольку я была руководителем англоязычного ежедневника «Тудейз заман», я понимала, что это дело времени, пока они начнут преследовать меня тоже.
Четыре месяца до того, в декабре 2015 года, я была приговорена к условному тюремному заключению за мои «твитты». На самом деле даже не за мои собственные «твитты», а за комментарии, оставленные под моим «твиттом». Тогдашний премьер-министр подал на меня в суд, и я получила условное заключение.
Так что, репрессии против меня уже начались, и я понимала, что Турция никогда не обладала похвальной репутацией в отношении свободы журнализма. Но становилось всё хуже и хуже, и наша медиакомпания стала первоочередной мишенью правительства. Было очевидно, что это просто вопрос времени.
Это было трудное решение – покидать страну с двумя лишь сумками … внезапно, не сообщив никому, потому что меня могли остановить на границе. Очень многим людям запретили выезжать за границу. Я очень нервничала, что мне тоже запретят, но, к счастью, мне можно было уезжать. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было лучшее решение моей жизни, потому что я была бы сейчас в заключении, как и мои коллеги.
«Гдж»: Вам лично угрожали?
Акарчешме: В социальных сетях, да. Я, как и мои коллеги, перестала писать «твитты» на турецком, я писала только на английском иногда. Любой критик скажет вам, что целая армия троллей выбрала вас мишенью и преследует вас.
«Гдж»: Как вы пришли к выводу, что вам нужно уехать?
Акарчешме: Это было очень внезапное решение. В те два дня между полицейским налетом [4 марта 2016 года] и моим отъездом я разговаривала только с [Абдулхамитом Билиджи] главным редактором более крупной медиакомпании. Его также уволили, и он был в небезопасности. Но он не хотел уезжать сразу. Он считал, что ему нужно остаться, чтобы поддержать сотрудников младшего уровня. А я просто подумала, что в случае ареста, я не выдержу условий турецкой тюрьмы. И я себе сказала, что мне нужно уезжать.
В аэропорту я очень нервничала, потому что не знала, действителен ли мой паспорт. Это был незабываемый момент. Я помню, как проходила таможню и паспортный контроль и чрезвычайно нервничала. Смешно, потому что я была всего лишь журналисткой. Я знала, что я не сделала ничего плохого, но я также знала, что этого не достаточно, чтобы уберечь меня от возможного преследования или предотвратить мой отлет. Я вздохнула с облегчением, когда мы приземлились в Брюсселе.
В июле, когда я уезжала из Бельгии и была по дороге в США, меня сняли с самолета, потому что мой паспорт был недействителен. Так что, это все-таки случилось, но, к счастью, случилось после того, как я уехала из Турции.
«Гдж»: Каково это было чувствовать, что вы вынуждены уехать из Турции так внезапно?
Акарчешме: Это было жутко неприятное чувство. Вы как-то становитесь отчужденным от своей страны. В тот день, когда я решила уехать, я уже чувствовала, что Турция – это безнадежное дело, и для меня больше не было будущего в Турции.
За последние два года я очень разочаровалась в моей родной стране и её обществе. Люди в основном молчат в ответ на притеснения. Более того, они поддерживают Эрдогана.
Так что, это больше не мой дом, хотя там все еще живут люди, которых я люблю. Мое сердце и мысли вместе с узниками, особенно теми, которые стали жертвами «чисток», десятки тысяч людей, не только журналистов, а людей из разных сфер общества.
«Гдж»: У вас есть надежда вернуться?
Акарчешме: У меня нет надежды. Ничего не улучшиться. Правительство продолжает захватывать средства массовой информации. В стране не осталось свободных СМИ … кроме нескольких доступных через сеть телевизионных каналов и газет из эмиграции. Для независимого журнализма ничего не осталось. Вся история контролируется властями. Так что, к сожалению, у меня очень пессимистические настроения. Я не вижу выхода в ближайшем будущем.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://youtu.be/tOxGaGKy6fo”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Партнёр «Индекса цензуры» «Глоубел джонелист» – веб-сайт, который представляет свободу прессы в мировом масштабе и публикует международные новости. Он также готовит еженедельную радиопрограмму, которая выходит в эфир на радиостанции КБИЯ (КВIА), – партнёр НГР (NPR) в центральной части штата Миссури – и на партнёрских радиостанциях в шести других штатах. Веб-сайт и радиошоу готовятся совместно профессиональными сотрудниками и студентами Школы журналистики Миссурийского университета, самой древней школы журналистики в США.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Курдские журналистки открывают новый способ репортажа
Курдские женщины на «Жин ньюз» (Jin News), единственном феминистском новостном веб-сайте в Турции и других странах, используют новый подход к журналистике. Это Турция, поэтому они не избежали преследований: многие были задержаны, предстали перед судом или им угрожали.”][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1536055611774-cce826aa-df97-10″ include=”98413,98412,98411,98410,98409,98408″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Единственный новостной веб-сайт феминисток в Турции отмечает Международный женский день, пребывая под государственной цензурой. Доступ к сайту «Жин ньюз» («Jin» («жин») означает «женщина» на курдском языке), который базируется в городе Диярбакыр, полностью управляется женщинами и специально фокусируется на новостях, касающихся женщин, был заблокирован семь раз в течение только одной недели в конце января. В настоящее время доступ к сайту из территории Турции закрыт.
Однако это давление не обескуражило журналистов «Жин ньюз». «Мы всегда показывали, что у нас есть альтернативы, и мы продолжаем это демонстрировать», – рассказала «Индексу цензуры» редактор «Жин ньюз» Беритан Элякут. Опираясь на социальные сети и используя VPN, «Жин ньюз» анонсировал выпуск нового телеканала в ознаменование символического дня, который имеет для них двойное значение. «ЖИНХА» (JINHA), первое турецкое информационное агентство, управляемое женщинами, также было создано в Международный женский день шесть лет назад.
К прессингу им было не привыкать: они были закрыты не один раз, а дважды – больше, чем любое другое турецкое новостное издание при нынешнем чрезвычайном положении. В первый раз «ЖИНХА» было закрыто правительственным указом в октябре 2016 года. Газете «Шужин» (Şujin), преемнику «ЖИНХА», разрешили просуществовать только девять месяцев – другим указом ее закрыли в августе 2017 года.
Но все же «Жин ньюз» возродился из праха, переняв наследие «ЖИНХА» – стиль написания новостей, который представляет женщин «как субъекты, а не объекты». Сайт заботится о том, чтобы использовать точный язык, например, употребляя слово «убит» вместо «погиб», чтобы подчеркнуть насилие среди мужчин. Они также избегают подчеркивать детали, которые косвенно оправдывают насилие в отношении женщин (например, путем отказа от замечания, что жена добивалась развода) или избегают ненужных деталей в описании случаев сексуального нападения. Вслед за тем существует строгое использование имен вместо фамилий – практика, предпринятая в настоящей статье, чтобы читатель получил представление об их методологии.
«В новостных статьях о женщинах нам следовало все продумать до мельчайших подробностей. Мы решили не использовать фамилии, чтобы нарушить представление о том, что семейная родословная произошла от мужчин. Если мы напишем «Беритан Элякут» в начале статьи, чтобы представить человека, мы тогда используем имя, отличающее этого человека как субъекта», – рассказала Беритан. Даже самым высокопоставленным должностным лицам, в том числе двум бывшим сопредседателям про-курдской Демократической партии народов (HDP), которые в настоящее время находятся под арестом, Фиген Юксекдаг и Селахаттину Демирташу, не удалось избежать этого правила.
Этот подход также предусматривал другую методику выбора тем. «Мы не просто освещаем новости о сексуальных нападениях, насилии или домогательствах. Мы начали публиковать статьи, отражающие женщин как сильных людей. Мы сообщали о женщинах-новаторах. Мы сосредоточились на новостях экономики и экологии. Мы сделали женщин видимыми в политике, обратили на них внимание и дали им возможность высказать свое мнение», – говорит Беритан.
«Наш народ знает, как жить в сложных обстоятельствах. Курдские женщины знают, как сопротивляться. Агентство «ЖИНХА» было закрыто, и газета «Шужин» была создана. «Шужин» закрыли, и был создан сайт «Жин ньюз», а это значит, что мы можем снова и снова заново открывать себя».
Поощряя женщин высказываться
Чтобы гарантировать, что голоса женщин не приглушены, «Жин ньюз» использует в своих статьях эксклюзивные свидетельства и цитаты женщин. Когда репортёр Жерибан Аслан разговаривает с людьми на популярном рынке Баглар в Диярбакыре, то, как она рассказывает «Индексу цензуры», реакция собеседниц всегда очень позитивная, когда она представляется журналисткой курдского информационного агентства, освещающего новости о женщинах.
Придя на рынок, Жерибан и её коллега Ренгин Азизоглу спокойно прогуливаются, приглядываясь к женщинам, ходящим по магазинам. Предметом их репортажа является уничтожение общественного оздоровительного центра, превращенного в полицейский участок назначенным правительством доверенным лицом после того, как демократически избранные муниципалитетом сопредседатели мэра были брошены в тюрьму.
Результат не заставляет себя долго ждать, как только они входят в сувенирный магазин. Одна из продавщиц соглашается на интервью. «В обществе бытует стереотип, что женщина не может работать. Вы нарушили его», – говорит Жерибан. «Безусловно», – отвечает женщина без колебания. Когда интервью подходит к концу, Жерибан спрашивает её, есть ли у нее какие-либо пожелания другим женщинам. «Они обязательно должны работать», – говорит продавщица. «Они не должны подчиняться мужчинам».
«Женщины чувствуют себя комфортно и уверенно, когда разговаривают с нами», – рассказывает Жерибан. «То, что мы представляем курдское информационное агентство, также помогает».
«Из какого Вы издания?» – спрашивает её какой-то мужчина, когда Жерибан выходит на улицу из магазина. «Мы представляем свободные СМИ», – отвечает Жерибан, используя выражение, которым курды обозначают собственные СМИ. «Ах, мы Вам более чем рады», – говорит собеседник.
Редактор курдскоязычной версии «Жин ньюз» Мюневвер Карадэмир также подчёркивает важность фактора поощрения. «Когда вы придаете им уверенности для самовыражения, женщины заключают вас в объятия», – рассказывает Мюневвер. «Когда вы говорите любой продавщице магазина, что «я представляю агентство, возглавляемое женщиной, и которое работает над проблемами женщин», её отношение к вам становится совсем другим. Она чувствует себя в безопасности. Она может рассказать вам, о чем сейчас переживает».
Журналистки «Жин ньюз» также стремятся поделиться своим ноу-хау с другими изданиями, особенно с мужчинами-журналистами. У них есть проект по подготовке словаря недискриминационного языка новостей. «Мы планировали собраться вместе с мужчинами и организовать тренинги «Как создавать новостную статью» и «Как использовать язык, учитывающий интересы женщин, в новостных статьях», но не смогли из-за обстановки [в регионе]», – говорит Беритан.
Однако даже простое присутствие журналисток «Жин ньюз» уже начало повышать некоторый уровень осведомленности. «Некоторые журналисты, в большинстве мужчины, спрашивают нас: «Не могли бы вы проверить эту статью и посмотреть, использовали ли мы точный язык?» Теперь они понимают эту проблему», – рассказала журналистка. Один из самых важных успехов Беритан заключался в том, чтобы показать, что женщины более чем способны заниматься журналистикой – зачастую лучше, чем мужчины. «Мы видели, что женщины тоже быстро работают. Но они также быстро стремятся поделиться новостью наилучшим образом. Они дотошны».
Женщины-журналисты создают платформу против давления
По словам Беритан, стратегия «Жин ньюз» по сбору женских голосов была более успешной на востоке, чем на западе Турции. Это результат строгой политики паритета сопредседателей, начатой Демократической партией народов, которая гарантировала руководящие должности для женщин в курдских муниципалитетах. Однако после того как доверенные лица заняли большинство муниципалитетов, возглавляемых Демократической партией народов, «Жин ньюз» не только потеряло своих собеседников (большинство доверенных лиц оказались мужчинами), но и лишилось важного источника дохода, ведь многие женщины-сопредседатели обеспечивали подписку муниципалитета на их услуги и поощряли деятельность агентства.
Со времени попытки военного переворота в городских центрах страны, журналисты стали мишенью для органов государственной безопасности, а их аресты и задержания стали распространенной практикой.
«Государство хотело изолировать нас у себя в стране посредством арестов. Когда это не сработало, они попытались полностью закрыть информационные агентства», – говорит Беритан, узнав, что одна из её журналисток, Дуркет Сюрен, обвиняется в «членстве в террористической организации и ее финансировании» после задержания несколькими днями ранее на обычном контрольно-пропускном пункте. Дуркет была в конечном итоге освобождена по решению суда, но была подвергнута запрету на поездки и приказу регулярно отмечаться в полицейском отделении.
Дуркет является не единственной журналисткой «Жин ньюз», обвиняемой в уголовных преступлениях. Бывшая репортёр «ЖИНХА» Зехра Доган в настоящее время отбывает тюремный срок в два года и девять месяцев за «распространение пропаганды террористической организации». Она была осуждена за публикацию в декабрьской статье 2015 года свидетельских показаний 10-летней девочки, пострадавшей от турецкой военной операции в городе Нусайбин. Также художница Зехра получила тюремный срок за «нанесение турецких флагов на разрушенные здания» в картине, скопированной с реальной фотографии, на которой можно увидеть турецкие флаги на зданиях, разрушенных турецкими силами безопасности. Беритан Канозер, журналистка агентства в Стамбуле, и Айсель Ишик также недавно отбывали тюремное заключение. Многие из них были задержаны, и около 10 журналисток в настоящее время находятся под судом. Агентство также получает регулярные угрозы.
Айше Гюней, репортёр курдского агентства «Месопотамия» (Mezopotamya) и пресс-секретарь одноименной женской журналистской платформы, рассказала «Индексу цензуры», что государственное насилие стало обычной практикой. «В провинции, например Ширнак, наши репортёры постоянно подвергаются словесным преследованиям или угрозам. Многие избегают идти в одиночку в деревни или в определенные районы. Им угрожают – от угроз похищения до насилия или изнасилования. На сегодня угрозы устные, но это серьезные попытки запугать журналисток», – говорит она.
Платформа была создана в 2017 году в другой символический день, 3 мая – в День свободы печати – для того, чтобы женщины могли бороться с общими проблемами вместе. К ним относятся социальные проблемы, такие как безработица после повторного закрытия курдских СМИ в Диярбакыре, а также борьба против всех видов насилия. «Благодаря этому объединению мы хотели помочь нашим друзьям, задержанным, арестованным или подвергнутым домогательству от источников информации, подвергнутым нападениям или насилию со стороны полиции. Мы также хотели сделать это давление публичным», – рассказала Айше.
Последним журналистом-женщиной, арестованной полицией, является Седа Ташкин, которая делала репортаж в провинции Муш. Седа была впервые выпущена на испытательный строк, но ее арестовали через месяц в Анкаре из-за репортажей и твитов.
По словам Айше, не случайно, что женский журналистский эксперимент начался в Диярбакыре, а не, как ожидали некоторые, – в Стамбуле. «Наш народ знает, как жить в сложных обстоятельствах. Курдские женщины знают, как сопротивляться. Агентство «ЖИНХА» было закрыто, и газета «Шужин» была создана. «Шужин» закрыли, и был создан сайт «Жин ньюз», а это значит, что мы можем снова и снова заново открывать себя», – говорит Айше. «Мы говорим здесь о свободе женщин, а не о гендерном равенстве. Это тема, которая выходит за рамки данной проблемы».
Айше также рассказала, что хотела бы призвать всех женщин-журналистов в Турции участвовать в совместном движении. «В стране почти нет журналистов, которые бы не прибывали под судом. Либо они попали в тюрьму или вышли из нее, либо должны регулярно отмечаться в полицейском отделении каждые два или три или даже пять дней. Это означает, что они не могут покинуть город, который становится тюрьмой под открытым небом», – говорит Айше. «Но это происходит не только с курдами. Это происходит везде. Так что пришло время действовать вместе».
Озгун Озчер
Озгун Озчер работает журналистом и администратором «Платформы независимой журналистики» (P24), базирующейся в Стамбуле. Он работал в нескольких турецких СМИ, включая «Тараф» (Taraf), «Хюрриет дейли ньюз» (Hürriyet Daily News) и «Биргюн» (Birgün). Он также работал в таких негосударственных организациях, как турецких представительствах ЮНИСЕФ (UNICEF) и «Международной амнистии» (Amnesty).
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Вопрос сейчас заключается в том, будут ли мне рады после смены правительства? Я все ещё откровенна в высказывании того, что думаю».”][vc_single_image image=”100854″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Эта статья входит в серию «Проект изгнания», разрабатываемого партнёром «Индекса цензуры» (Index on Censorship) «Глоубэл джонэлист» (Global Journalist), в которой опубликованы интервью с живущими в изгнании журналистами со всего мира.
Джорджина Годвин выросла в стране, находящейся в состоянии войны.
Родившись в либеральной белой семье в Родезии конца 1960-х годов, она пережила эпоху зверств, когда правительство белого меньшинства президента Яна Смита сражалось с повстанцами из Африканской национально-освободительной армии Зимбабве Роберта Мугабе. Её старший брат Питер, теперь журналист и писатель, был мобилизован в Британскую полицию Южной Африки для боев с повстанцами. Её старшая сестра Джейн была убита в 1978 году, когда со своим женихом натолкнулись на армейскую засаду.
После того, как правление белых закончилось в 1980 году, и Мугабе выиграл выборы в качестве премьер-министра в тогдашнем Зимбабве, некоторые белые покинули страну. Годвин осталась и стала известным ди-джеем на государственном радио, позже став ведущей утренней телепрограммы «Эй-Ем-Зимбабве» (AMZimbabwe) «Зимбабвийской телерадиовещательной корпорации» (Zimbabwe Broadcasting Corp.).
К концу 1990-х её работа становилась все более неприятной. Правительство Мугабе делалось всё более авторитарным и коррумпированным. Оппозиционное движение, возглавляемое профсоюзами и поддерживаемое некоторыми белыми, начало расти, и Годвин чувствовала, что её все больше привлекает оппозиционная политика. «Было безответственно занимать общественную позицию, но не говорить или делать что-либо», – рассказывает Годвин в интервью с «Глоубэл джонэлист».
Когда группа друзей сказала ей, что они планируют обратиться в суд, чтобы бросить вызов монополии на вещание «Зимбабвийской телерадиовещательной корпорации», она предложила помочь им создать первую независимую радиостанцию в стране, если они выиграют.
В неожиданном решении в 2000 году Верховный суд Зимбабве дал этой станции разрешение на старт.
«Когда я была в эфире, рассказывая прогноз погоды и болтая о музыке, позвонили из суда – они действительно выиграли дело», – говорит она. «Я продолжила вести шоу, но в конце передачи объявила об уходе. Я подала в отставку в прямом эфире, сказав: «Мне очень жаль, но это будет моя последняя передача на канале «Зимбабвийской телерадиовещательной корпорации». Я не могла сказать, где буду дальше работать, потому что это был секрет. В тот момент мы не знали, как мы собираемся организовать радиостанцию или что мы собираемся делать».
Радиостанция «Кэпитл ФМ» (Capital FM) вскоре начала вещание с передатчика на крыше отеля в Хараре. Она недолго проработала. В течение недели тогдашний президент Мугабе издал указ о ее закрытии, и солдаты напали на студию «Кэпитл ФМ», уничтожив оборудование.
В 2001 году Годвин перебралась в Лондон, где основатели «Кэпитл ФМ» создали радиостанцию под названием «Эс-Вэ Эфрика Рейдио» (SW Africa Radio) для трансляции новостей и информации в Зимбабве по коротковолновому диапазону. Правительство Зимбабве объявило её и её коллег «врагами государства». Поездки в страну, где всё ещё жили её пожилые родители, становились всё более нервозными.
Годвин провела несколько лет на «Эс-Вэ Эфрика Рейдио», прежде чем стала независимой журналисткой и начала работать в ряде британских новостных изданий. В настоящее время она является литературным редактором на «Монокль 24» (Monocle 24), онлайн-радиостанции журнала «Монокль» (Monocle). Она ведет литературную программу «Познакомьтесь с писателями» (Meet the Writers) и часто появляется в программах по обсуждению текущих событий в эфире «Монокль 24».
Годвин побеседовала с Теодорой Агаричи из «Глоубэл джонэлист» о её изгнании из Зимбабве и отношении к отстранению Мугабе от власти в результате военного переворота в прошлом году. Ниже, отредактированная версия их интервью:
«Глоубэл джонэлист»: Насколько сложно было адаптироваться к жизни в Великобритании?
Годвин: Адаптация была действительно интересным этапом. Я выгляжу как большинство британцев, у меня белый цвет кожи и нет особо сильного акцента. Поэтому, увидев меня, люди думают, что я – англичанка.
Но когда я впервые приехала сюда, я не понимала, как работает метро, культурные и исторические вещи, на которых выросли все люди, смотря телевизор, не было осознания даже огромного классового разрыва, который можно здесь обнаружить.
Я полагаю, особенно после «брексита», что очень хорошо осознаю то, что я не британка, но лондонец. Жить в Лондоне означает быть частью города, но это не значит, что мы англичане и, разумеется, не означает, что мы являемся частью людей, которые решили действительно стать замкнутой системой и отказаться от остального мира, проголосовав за «брексит» на референдуме.
«Гдж»: Как Вы оцениваете свободу прессы в Зимбабве сейчас?
Годвин: Некоторые журналисты из старшего поколения, которые писали очень смелые статьи, продолжают это делать. Нам нужно воздать должное тем, кто занимался журналистикой в тяжёлые времена, когда редакции взрывали, а репортеров похищали и избивали.
Думаю, теперь лучшие времена, и люди чувствуют себя более смелыми, чтобы высказываться и рассказывать о том, что происходит. Мне было бы очень интересно увидеть в преддверии выборов [в июле 2018 года], насколько им действительно разрешено говорить, но думаю, что есть некоторое количество замечательных журналистов и корреспондентов, которые делают отличную работу в определённый ущерб себе.
Что касается того, как иностранные СМИ освещают Зимбабве, у людей действительно есть реальный выбор. Есть доступ к интернету, издаются независимые газеты, и к тому же есть филиалы всех южноафриканских и международных каналов, таких как «Аль-Джазира» или Би-би-си.
«Гдж»: Бывший вице-президент за правления Mугабе Эммерсон Мнангагва теперь является президентом. Он был министром государственной безопасности в 1980-х годах, когда спецслужбы убили до 20 000 мирных жителей. Считаете ли Вы, что теперь Вам безопасно вернуться в страну?
Годвин: Я приезжала в Зимбабве дважды с тех пор, как уехала, оба раза под чужим паспортом, к которому у меня больше нет доступа. Поскольку я работала на телевидении, на самом деле не имело значения, какое имя в паспорте. Люди узнают тебя по телевизору.
Ты в основном полагаешься на добрую волю сотрудника иммиграционной службы, и остается только надеяться, что он не тот, кто знает о твоей бывшей работе, или, если знает, то её одобряет.
Как пишет мой брат в своих воспоминаниях: когда он вошел, сотрудник иммиграционной службы спросил: «Вы родственник Джорджины?»
Думаю, он постарался не отвечать, но сотрудник тихо сказал: «Пожалуйста, передайте ей, что мы слушаем её каждый день».
Вопрос сейчас заключается в том, будут ли мне рады после смены правительства? Я все ещё откровенна в высказывании того, что думаю. У меня нет личной враждебности по отношению к [президенту] Эммерсону Мнангагве, но я твердо убеждена, что то, что было сделано во время его руководства, безусловно, было преступлением. Это был геноцид.
Я не уверена, что он будет рад моему приезду туда, что на самом деле является его страной на данный момент. Но я с большим оптимизмом смотрю на свою страну. Сейчас наступило то время, когда у зимбабвийцев есть реальный выбор, и я надеюсь на то, что они делают, не продиктовано историей, и они не просто голосуют, потому что всегда были сторонниками [правящей партии] «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» (ZANU-PF).
Следующее поколение имеет что предложить, чтобы направить нас в другую сторону. Так много зимбабвийцев страдали в условиях режима и, наконец-то, сегодня все могут пользоваться плодами труда людей, которые боролись так долго – не только журналистов, не только моих коллег, – но и всех простых людей, которые недавно боролись так сильно против глубокой, безразличной коррупции и тех, кто ее возглавил.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://youtu.be/tOxGaGKy6fo”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Партнёр «Индекса цензуры» «Глоубел джонелист» – веб-сайт, который представляет свободу прессы в мировом масштабе и публикует международные новости. Он также готовит еженедельную радиопрограмму, которая выходит в эфир на радиостанции КБИЯ (КВIА), – партнёр НГР (NPR) в центральной части штата Миссури – и на партнёрских радиостанциях в шести других штатах. Веб-сайт и радиошоу готовятся совместно профессиональными сотрудниками и студентами Школы журналистики Миссурийского университета, самой древней школы журналистики в США.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
24 Sep 18 | Global Journalist (Russian), Journalism Toolbox Russian
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”«Общение между журналистами, которые находятся за рубежом, – важно»”][vc_single_image image=”56243″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Рахим Хациев, в то время действующий главный редактор азербайджанской газеты «Азадлыг» (Azadliq), принимает Награду за Свободу Слова в области журналистики от «Индекса цензуры» (Index on Censorship) в 2014 году (Фото Алекса Бреннера для «Индекса Цензуры»)
В тот вечер, когда Рахим Хациев принимал Награду за Свободу Слова в области журналистики (спонсор номинации газета «Зе Гардиан» (The Guardian)), он поднял высоко над головой копию газеты, которая выстояла несмотря на нападки со стороны правительства, чьи злодейства она освещала. Это был март 2014 года и Хациев, действующий главный редактор независимой азербайджанской газеты «Азадлыг», стоял на сцене в Лондоне. Он триумфально провозгласил: «Команда газеты решительно настроена продолжать эту священную работу – служить правде. Потому что в этом смысл того, что мы делаем, и смысл нашей жизни».
Четыре месяца спустя эта миссия была поставлена под угрозу запугиваниями, арестами и финансовыми ущемлениями за репортажи о правительственной коррупции. И это не впервые «Азадлыг» столкнулся с экономическим давлением со стоны дистрибьюторов, поддерживаемых правительством во главе с его лидером (четырежды избираемым на этот пост) Ильхамом Алиевым. Алиев обвиняется в авторитарном правлении и подавлении инакомыслия со времен вступления в должность в 2003 году.
Месяцы штрафов, превосходящих 50 000 фунтов стерлингов, и множественные аресты подавили газету, и она приостановила свое печатное издание в июле 2014 года. Среди других представителей гражданской общественности и независимых СМИ, обозреватель Сеймур Хези, коллега Хациева, пребывает в заключении за «отягчающий обстоятельства хулиганизм», проявленный им в попытке защитить себя от физического нападения. Множественные общественные протесты не были услышаны правительством.
Что касается этого года, то согласно индексу свободы прессы, составляемого «Репортёрами без границ», в данное время в Азербайджане в заключении находятся 165 журналистов. Ежемесячно в базе данных проекта «Маппинг Медиа Фридом» (Mapping Media Freedom), который следит за свободой СМИ, регистрируются доклады о насилии над инакомыслием в бывшей советской республике. Только в июле 2018 года в базе данных было зарегистрировано четыре заблокированных правительством за распространение дезинформации веб-сайта, допросы руководством двоих редакторов независимых новостных изданий и один арестованный за неповиновение полиции журналист.
В декабре 2017 года Высший Суд Азербайджана поддержал блокировку пяти независимых новостных веб-сайтов, включая Azadliq.info, действующий с марта 2017. Хациев раскритиковал этот шаг и охарактеризовал его как дополнительное препятствие для азербайджанского народа на пути к объективной информации.
Проживая в ссылке в западной Европе с 2017 года, Хациев рассказывал «Индексу»: «Четверо сотрудников нашего сайта в тюрьме. Их обвинили в хулиганстве и незаконных финансовых операциях. Их всех арестовали по сфабрикованным обвинениям. Все обвинения выдуманные».
Пребывая за рубежом, Хациев курирует страницу газеты в «Фейсбуке», пока она обновляется и есть в свободном доступе для читателей за пределами Азербайджана. Касательно нынешней ситуации в сфере свободы слова в родной стране, он говорил: «Ситуация в стране очень тяжелая. Власти продолжают притеснять демократически настроенных людей. Продолжаются аресты политических активистов и журналистов».
Хациев разговаривал с Шреей Парджан о текущей ситуации.
«Индекс»: «Азадлыг» единственная мишень? Почему её публикации воспринимались как такая угроза правительству?
Хациев: Мы не можем сказать, что только «Азадлыг» подверглась репрессиям. Азербайджанские власти очень коррумпированы, и они не терпят критики со стороны оппонентов. Коррумпированные и репрессивные режимы по всему миру подавляют свободу слова. В этом отношении власти Азербайджана, особенно в последнее время, находятся в рядах наиболее репрессивных в мире.
«Индекс»: Что заставило вас в конечном итоге решится покинуть Азербайджан и насколько сложным был этот процесс?
Хациев: Газета прекратила свою деятельность в сентябре 2012 года. Власти не разрешили «Азадлыг» печататься. В то время они не тронули сайт газеты. Я оставался в стране еще некоторое время. Мне жаль, что мне пришлось покинуть Азербайджан, но власти оказывали на меня очень сильное давление. Мои коллеги продолжали руководить веб-сайтом и страницей газеты в «Фейсбуке». Конечно, это трудный процесс. Быть вынужденным покинуть страну – очень неприятно. Мне пришлось пережить много проблем. Несмотря на это, я продолжал дело.
«Индекс»: Пока вы в ссылке, как вам удается продолжать работу и добиваться изменений?
Хациев: Во время ссылки я продолжаю руководить веб-сайтом и страницей газеты в «Фейсбуке». Находясь за пределами страны, я активно использую социальные сети. С одной стороны, я собираю информацию, а с другой стороны, я ее распространяю. Социальные сети помогают организовать работу и руководить ей. Наша страница в «Фейсбуке» одна из самых популярных в стране, и я горжусь нашим достижением.
«Индекс»: Могли бы вы указать на какие-то сообщества, оказавшие вам поддержку в ссылке? Какие обязанности существуют в иностранных корреспондентов касательно сотрудничества и поддержки друг друга в кризисные времена?
Хациев: Общение между журналистами, которые находятся за рубежом, – важно. Очень полезно делиться и опытом, и информацией. Было бы очень хорошо поговорить о работе с местными журналистами.
«Индекс»: Как подавление цифровой свободы противостоит правительственной истории о современном, свободном Азербайджане?
Хациев: Политический режим в Азербайджане сильно подавляет свободу слова. Согласно индексу свободы прессы, составляемого «Репортёрами без границ», Азербайджан занимает 163 место. В настоящее время страна переживает один из наиболее трудных периодов своей истории. Права и свободы граждан долго носили номинальный характер. В данное время в стране более 160 политических узников.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
21 Sep 18 | Albania, Europe and Central Asia, Mapping Media Freedom, Media Freedom, media freedom featured, News and features
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

A small protest by journalists and citizens after the attack on Klodina Lala’s parental home. Credit: Fjori Sinoruka
In the early hours of 30 August, investigative journalist Klodiana Lala’s parental home was sprayed with bullets. Luckily no one was injured.
Lala, a crime reporter for Albania’s News 24 TV, connected the incident with her work as a journalist, saying that neither she nor her family had any personal conflicts that would spur this type of incident. The attack drew rapid condemnation and calls to bring the perpetrators to justice from concerned citizens and politicians, including the country’s prime minister, Edi Rama, who described it as a “barbarous” act. He pledged that the authorities would spare no efforts to investigate the attack.
Rama’s fine words about this attack belie the reality of most crimes against journalists in Albania: identification and prosecution rates of perpetrators are near zero.
When City News Albania’s editor Elvi Fundo was brutally assaulted at 11am in crowded central Tirana, he too received solidarity from the country’s politicians and press, including a note from Rama. But 17 months later, those expressions of support haven’t translated into action from prosecutors.
The attack on Fundo, in which he was beaten with iron bars by two men in hoodies just metres from his office, left him unconscious with serious injuries to his head and an eye.
To add insult to his injuries, Fundo was told on 31 August 2018 that prosecutors were suspending the investigation into his assault because of the lack of suspects.
“This is a grotesque decision. Investigations are not conducted thoroughly. I had to force authorities to seek out more footage from the bars around the area after I left the hospital. They didn’t seem very keen to do so,” he said.
Fundo’s lawyer challenged the decision in court, emphasising that he has given prosecutors information, he said, that can lead investigators to those that ordered the attack.
“I will never stop pushing them to bring the authors of the assault on me to justice since this is not a case lacking in information. I believe the police and prosecutors are just afraid of those who ordered the attack on me,” he said.
While intimidation is a criminal offence in Albania and is punishable by a fine or up to two years in prison, journalists find themselves without much support when they are threatened due to their professional duties.
Very often, prosecutors are reluctant to even open a case and when they do are eager to drop the charges, as was the case against a man who threatened a journalist on Facebook.
Dashamir Bicaku, a crime reporter who acted as a fixer and translator for a Daily Mail journalist, received an anonymous threatening message on June 17 2018 via his Facebook account. The threat came two days after the Mail published an investigation into Elidon Habilaj’s fraudulent asylum claim and subsequent career in British law enforcement, for which Habilaj was convicted and sentenced to 18 months in absentia.
“I’ll come straight to the point! I’ll come and get you so that there’ll be nothing left of you and yours!”, the message read. He reported the incident to the police the next day, alleging to law enforcement that Habilaj was the only person who would have a motive to threaten him.
But on 31 July 2018, he received a letter from the Vlora prosecutor’s office telling him that they had decided not to open an investigation into the case. According to Bicaku, the prosecutors said that Habilaj had denied sending a threatening message to the journalist and — even if he had — the message was not serious.
A few days later Bicaku learned that a close relative of Habilaj was working as a prosecutor in the same unit.
“What happened is a clear signal about the connections that those involved in organised crime have with people in the justice system,” Bicaku said.
Even when the aggressor has been clearly identified, negligence by the investigating institution makes appropriate punishment difficult.
Julian Shota, a correspondent of Report TV, was threatened with a gun by Llesh Butaku, the owner of a bar in the town of Lac where an explosion had taken place. When the journalist identified himself, Butaku demanded that he leave and not report the incident. When Shota refused, Butaku loaded a gun and pointed it at the journalist’s head.
Shota said he was saved by Butaku’s relatives, who grabbed his hand to prevent him from shooting. The journalist immediately reported the incident to police, but three hours passed before they arrived to detain Butaku.
“In three hours you can hide a rocket let alone a handgun,” Shota said. “The prosecutor received me in his office telling me clearly that I should not expect a lot since no gun was found on him.”
After seven hours Butaku released and the charge for illegal possession of firearms, which could have carried a prison sentence, was dropped.
“Instead of being investigated for attempted murder, Butaku is only being investigated for making threats,” he said.
Artan Hoxha, a prominent investigative journalist with over 20 years of experience, remembers tens of case when he was threatened because of his job, but that “every single case was suspended without any success”.
“I rarely report the threats that I receive to the authorities anymore. I know it is not worth even to bother doing so,” he said.
Part of the problem is that the Albanian judicial system is considered one of the most corrupt in Europe. It is currently undergoing a radical reform overseen by international experts in which all the country’s judges and prosecutors are being put through a vetting process.
As of August, 45 judges and prosecutors have been evaluated. Twenty-one failed and will be unable to continue to work in the judicial system.
Dorian Matlija, attorney and executive director at Res Publica, a centre for transparency, considers the prosecution the most problematic branch of the judicial system.
“Journalists are right, the prosecution is infamous for its bad work and it is one of the less scrutinised institutions over its decisions despite having a lot of power within the system,” he said.
According to Matlija, when journalists received death threats or are sued, they often find themselves alone.
“They have difficulties accessing and navigating the judicial system while the media owner is often the first to abandon them to keep trouble at bay,” Matlija said.
To remedy this, he said that is very important to create free legal help for journalists, not only when they face prosecution, and also to push for employment rights.
Journalists consider the lack of judicial protection a big obstacle in continuing doing investigative journalism in Albania.
“Is very difficult to investigate organised crime in Albania, since you don’t have the minimum protection and media owners can throw you out in the first place,” Bicaku said.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1537456192915-fc339c8f-4676-3″ taxonomies=”6564″][/vc_column][/vc_row]